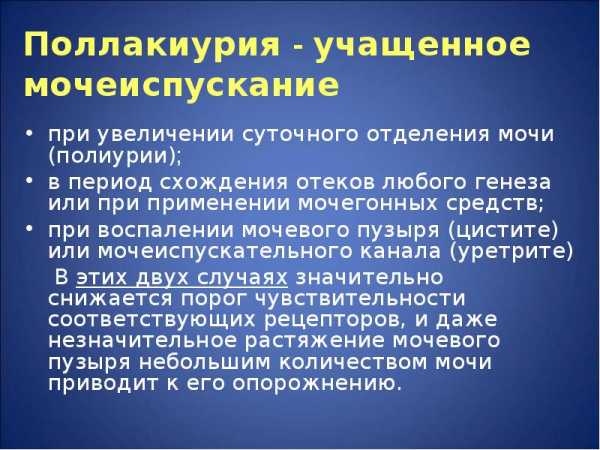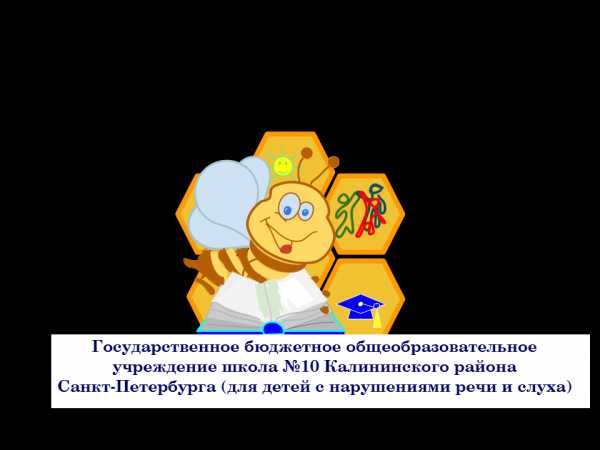|
 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Божович проблемы развития мотивационной сферы ребенкаЛ.И. Божович. Проблема развития мотивационной сферы ребенкаЧасть II |
||||||||||||||||
| ТОП 10: | Излагая исследование мотивов учебной деятельности школьников, мы будем называть мотивами все побудители этой деятельности. <…> В результате исследования было установлено, что учебная деятельность школьников побуждается целой системой разнообразных мотивов. Для детей разного возраста н для каждого ребенка не все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни из них являются основными, ведущими, другие — второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние всегда так нлн иначе подчинены ведущим мотивам. В одних случаях таким ведущим мотивом может оказаться стремление завоевать место отличника в классе, в других случаях — желание получить высшее образование, в третьих—интерес к самим знаниям. Все этн мотивы учения могут быть подразделены на две большие категории. Один из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие — с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; другие связаны с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений. Исследование обнаружило, что обе эти категории мотивов необходимы для успешного осуществления не только учебной, но н любой другой деятельности. Мотивы, идущие от самой деятельности, оказывают непосредственное воздействие на субъект, помогая ему преодолевать встречающиеся трудности, препятствующие целенаправленному н систематическому ее осуществлению. Функция другого вида мотивов совсем иная: будучи порождены всем социальным контекстом, в котором протекает жизнь субъекта, онн могут побуждать его деятельность посредством сознательно поставленных целей, принятых решений, иногда даже независимо от непосредственного отношения человека к самой деятельности. Для нравственного воспитания учащихся далеко не безраз- лично, каково содержание широких социальных мотивов их учебной деятельности. Исследования показывают, что в одних случаях школьники воспринимают учение как свой общественный долг, как особую форму участия в общественном труде взрослых. В других— они рассматривают его лишь как средство получить в будущем выгодную работу и обеспечить свое материальное благополучие. Следовательно, широкие социальные мотивы могут воплощать в себе подлинно общественные потребности школьника, но могут представлять собой и личные, индивидуалистические или эгоистические побуждения, а это в свою очередь определяет формирующийся моральный облик ученика. В исследовании было также установлено, что и та и другая категория мотивов характеризуется специфическими особенностями на разных этапах развития ребенка. Анализ особенностей мотивации учения у школьников разных возрастов обнаружил закономерный ход изменений мотивов учения с возрастом и условия, способствующие этому изменению. У детей, поступающих в школу, как показало исследование, широкие социальные мотивы выражают возникающую в старшем дошкольном возрасте потребность занять новое положение среди окружающих, а именно положение школьника, и стремление выполнять связанную с этим положением серьезную, общественно значимую деятельность. Вместе с тем у детей, поступающих в школу, имеется и определенный уровень развития познавательных интересов. Первое время и те н другие мотивы обеспечивают добросовестное, можно даже сказать, ответственное отношение учащихся к учению в школе. В I и II классах такое отношение не только продолжает сохраняться, но даже усиливается и развивается. Однако постепенно это положительное отношение маленьких школьников к учению начинает утрачиваться. Переломным моментом, как правило, является III класс. Здесь уже многие детн начинают тяготиться школьными обязанностями, их старательность уменьшается, авторитет учителя заметно падает. Существенной причиной указанных изменений является прежде всего то, что к III—IV классам их потребность в позиции школьника является уже удовлетворенной и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную привлекательность. В связи с этим и учитель также начинает занимать в жизни детей иное место. Он перестает быть центральной фигурой в классе, способной определять и поведение детей и нх взаимоотношения. Постепенно у школьников возникает собственная сфера жизни, появляется особенный интерес к мнению товарищей, независимо от того, как на то или иное смотрит учитель. На этом этапе развития уже не только мнение учителя, но и отношение детского коллектива обеспечивает переживание ребенком состояния большего илн меньшего, эмоционального благополучия. Широкие социальные мотивы имеют настолько большое значение в Йом возрасте, чт5 в известной мере определяют и непосред- ственный интерес школьников к самой учебной деятельности. В первые 2—3 года учения в школе им интересно делать все, что предлагает учитель, все, что имеет характер серьезной общественно значимой деятельности. Специальное изучение процесса формирования познавательных интересов… позволило выявить их специфику на разных этапах возрастного развития школьников. В начале обучения познавательные интересы детей еще довольно неустойчивы. Для ннх характерна известная ситуативность: дети с интересом могут слушать рассказ учителя, но этот интерес исчезает вместе с его окончанием. Такого рода интересы можно характеризовать как эпизодические. Как показывают исследования, в среднем школьном возрасте и широкие социальные мотивы учения и учебные интересы приобретают иной характер. Среди широких социальных мотивов ведущим становится стремление учащихся найти свое место среди товарищей в классном коллективе. Обнаружилось, что желание хорошо учиться у подростков определяется больше всего их стремлением оказаться на уровне требований, предъявляемых товарищами, завоевать качеством своего учебного труда нх авторитет. И наоборот, самой частой причиной недисциплинированного поведения школьников этого возраста, их недоброжелательного отношения к окружающим, возникновения у них отрицательных черт характера является неуспех в учении. Существенные изменения претерпевают и мотивы, непосредственно связанные с самой учебной деятельностью. Их развитие идет в нескольких направлениях. Во-первых, интерес к конкретным фактам, расширяющим кругозор учащихся, начинает отступать на второй план, уступая место интересу к закономерностям, управляющим явлениями природы. Во-вторых, интересы учащихся этого возраста становятся более устойчивыми, дифференцируются по областям знаний и приобретают личностный характер. Этот личностный характер выражается в том, что интерес перестает быть эпизодическим, а становится как бы присущим самому ребенку и независимо от ситуации начинает побуждать его к активному поиску путей и средств своего удовлетворения. Важно отметить и еще одну черту такого познавательного интереса — его возрастание в связи с удовлетворением. В самом деле, получение ответа на тот или иной вопрос расширяет представления школьника об интересующем его предмете, а это с большей отчетливостью обнаруживает для него ограниченность собственных знаний. Последнее вызывает у ребенка еще большую потребность в их дальнейшем обогащении. Таким образом, личностный познавательный интерес приобретает, образно говоря, ненасыщаемый характер. В отличие от подростков, у которых широкие социальные мотивы учения связаны прежде всего с условиями нх школьной жизни и содержанием усваиваемых знаний, у школьников старшего возраста мотивы учения начинают воплощать их потребности и стремления, связанные с их будущей позицией в жизни и с их профессиональной трудовой деятельностью. Старшие школьники— это люди, обращенные в будущее, и все настоящее, в том числе и учение, выступает для них в свете этой основной направленности их личности. Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение становятся для них тем мотивационным центром, который определяет их деятельность, поведение и их отношение к окружающему. Подводя итог исследованиям широких социальных мотивов учения школьников и их учебных (познавательных) интересов, можно выдвинуть некоторые положения, относящиеся к теоретическому пониманию потребностей и мотивов и их развития. Прежде всего стало очевидным, что побуждение к действию всегда исходит от потребности, а объект, который служит ее удовлетворению, определяет лишь характер и направление деятельности. При этом было установлено, что не только одна и та же потребность может воплощаться в различных объектах, но и в одном и том же объекте могут воплощаться самые разнообразные взаимодействующие, переплетающиеся, а иногда и противоречащие друг другу потребности. Например, отметка в качестве мотива учебной деятельности может воплощать в себе и потребность в одобрении учителя, и потребность быть на уровне своей собственной самооценки, и стремление завоевать авторитет товарищей, и желание облегчить себе поступление в высшее учебное заведение, и многие другие потребности. Отсюда ясно, что внешние объекты могут стимулировать активность человека лишь потому, что они отвечают имеющейся у него потребности или способны актуализировать ту, которую они удовлетворяли в предшествующем опыте человека. В связи с этим изменение объектов, в которых воплощаются потребности, не составляет содержания развития потребностей, а является лишь показателем этого развития. Процесс же развития потребностей должен быть еще вскрыт и изучен. Однако на основании проведенного исследования некоторые из путей разви-тия потребностей могут быть уже намечены.___ “” Во-первых, это путь развития потребностей через изменение положения ребенка в жизни, в системе его взаимоотношений с окружающими людьми. На разных возрастных этапах ребенок занимает разное место в жизни, это определяет и разные требования, которые к нему предъявляет окружающая общественная среда. Ребенок же только тогда может испытать необходимое ему эмоциональное благополучие, когда он способен ответить предъявляемым требованиям. Это и порождает потребности, специфические для каждого возрастного этапа. В изложенном исследовании развития мотивов учебной деятельности школьника было обнаружено, что за изменением мотивов скрываются сначала потребности, связанные с новой социальной позицией школьника, затем с позицией ребенка в коллективе сверстников и, наконец, с позицией будущего члена общества. По-видимому, такой путь развития потребностей характерен не только для ребенка. Потребности взрослого человека также претерпевают изменения в связи с изменениями, происходящими в его образе жизни и в нем самом— его опыте, знаниях, в уровне его психического развития. Bo-B^ropuXjHOBbie потребности возникают у ребенка в процессе его развития в связи с усвоением им новых форм поведения и деятельности, с овладением готовыми предметами культуры. Так, например, у многих детей, научившихся читать, возникает потребность в чтении, научившихся слушать музыку—потребность в музыке, научившихся быть аккуратными — потребность в аккуратности, овладевших тем или иным спортом — потребность в спортивной деятельности. Таким образом, путь развития потребностей, который был указан Леонтьевым, несомненно, имеет место, только он не исчерпывает все направления развития потребностей и не раскрывает до конца его механизмы. Трехия^^вывод,.. заключается в том, что, помимо расширения круга потребностей и возникновения новых, происходит развитие внутри каждой потребности от элементарных ее форм к более сложным, качественно своеобразным. Этот путь особенно отчетливо обнаружился на развитии познавательных потребностей, происходящем в процессе учебной деятельности учащихся: от элементарных форм эпизодического учебного интереса до сложных форм в принципе неисчерпаемой потребности в теоретических знаниях. И наконец, последний путь развития потребностей… это путь развития структуры мотивационной сферы ребенка, т. е. развитие соотношения взаимодействующих потребностей и мотивов. Здесь имеет место изменение с возрастом и ведущих, доминирующих потребностей и своеобразной их нерархизации. Изучениемотивации поведения детей и подростков/Под ред. Л. И. Бо-жович и Л. В. Благонадежииой. М., 1972, с. 22—29. Ш. А. Амонашвили |
Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка
Подобный материал:- Учебно-методическое пособие псков 2008, 827.79kb.
- Учебно-методическое пособие Казань 2009 Печатается по решению заседания кафедры этнографии, 1411.77kb.
- Учебное-методическое пособие омск 2008 Печатается по решению, 602.49kb.
- Практикум Учебно-методическое пособие Канск 2006 Печатается по решению научно-методического, 1041.76kb.
- Методическое пособие Канск 2006 Печатается по решению научно-методического совета Канского, 314.84kb.
- Учебно методическое пособие Ростов-на-Дону 2006 Печатается по решению кафедры «Банковское, 485.3kb.
- Социология Учебно-методическое пособие для студентов Казань 2010 удк 005 101 1701841, 852.92kb.
- Учебно-методическое пособие Ульяновск, 2004 г. Ббк: 74. 200. 52 + 74. 265. 1 Удк: 373., 886.42kb.
- Методика преподавания прав ребенка Учебно-методическое пособие для студентов высших, 2661.31kb.
- Методическое пособие по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в образовательной, 626.47kb.
Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка
Излагая исследование мотивов учебной деятельности школьников, мы будем называть мотивами все побудители этой деятельности.
В результате исследования было установлено, что учебная деятельность школьников побуждается целой системой разнообразных мотивов.
Для детей разного возраста и для каждого ребенка не все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни из них являются основными, ведущими, другие - второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние всегда так или иначе подчинены ведущим мотивам. В одних случаях таким ведущим мотивом может оказаться стремление завоевать место отличника в классе, в других случаях - желание получить высшее образование, в третьих - интерес к самим знаниям.
Все эти мотивы учения могут быть подразделены на две большие категории. Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие - с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; другие связаны с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений.
Исследование обнаружило, что обе эти категории мотивов необходимы для успешного осуществления не только учебной, но и любой другой деятельности. Мотивы, идущие от самой деятельности, оказывают непосредственное воздействие на субъект, помогая ему преодолевать встречающиеся трудности, препятствующие целенаправленному и систематическому ее осуществлению. Функция другого вида мотивов совсем иная: будучи порождены всем социальным контекстом, в котором протекает жизнь субъекта, они могут побуждать его деятельность посредством сознательно поставленных целей, принятых решений, иногда даже независимо от непосредственного отношения человека к самой деятельности.
Для нравственного воспитания учащихся далеко не безразлично, каково содержание широких социальных мотивов их учебной деятельности. Исследования показывают, что в одних случаях школьники воспринимают учение как свой общественный долг, как особую форму участия в общественном труде взрослых. В других — они рассматривают его лишь как средство получить в будущем выгодную работу и обеспечить свое материальное благополучие. Следовательно, широкие социальные мотивы могут воплощать в себе подлинно общественные потребности школьника, но могут представлять собой и личные, индивидуалистические или эгоистические побуждения, а это в свою очередь определяет формирующийся моральный облик ученика.
В исследовании было также установлено, что и та и другая категория мотивов характеризуется специфическими особенностями на разных этапах развития ребенка. Анализ особенностей мотивации учения у школьников разных возрастов обнаружил закономерный ход изменений мотивов учения с возрастом и условия, способствующие этому изменению.
У детей, поступающих в школу, как показало исследование, широкие социальные мотивы выражают возникающую в старшем дошкольном возрасте потребность занять новое положение среди окружающих, а именно положение школьника, и стремление выполнять связанную с этим положением серьезную, общественно значимую деятельность.
Вместе с тем у детей, поступающих в школу, имеется и определенный уровень развития познавательных интересов. Первое время и те и другие мотивы обеспечивают добросовестное, можно даже сказать, ответственное отношение учащихся к учению в школе. В I и II классах такое отношение не только продолжает сохраняться, но даже усиливается и развивается.
Однако постепенно это положительное отношение маленьких школьников к учению начинает утрачиваться. Переломным моментом, как правило, является III класс. Здесь уже многие дети начинают тяготиться школьными обязанностями, их старательность уменьшается, авторитет учителя заметно падает. Существенной причиной указанных изменений является прежде всего то, что к III - IV классам их потребность в позиции школьника является уже удовлетворенной и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную привлекательность. В связи с этим и учитель также начинает занимать в жизни детей иное место. Он перестает быть центральной фигурой в классе, способной определять и поведение детей и их взаимоотношения. Постепенно у школьников возникает собственная сфера жизни, появляется особенный интерес к мнению товарищей, независимо от того, как на то или иное смотрит учитель. На этом этапе развития уже не только мнение учителя, но и отношение детского коллектива обеспечивает переживание ребенком состояния большего или меньшего эмоционального благополучия.
Широкие социальные мотивы имеют настолько большое значение в этом возрасте, что в известной мере определяют и непосредственный интерес школьников к самой учебной деятельности. В первые 2-3 года учения в школе им интересно делать все, что предлагает учитель, все, что имеет характер серьезной общественно значимой деятельности.
Специальное изучение процесса формирования познавательных интересов... позволило выявить их специфику на разных этапах возрастного развития школьников. В начале обучения познавательные интересы детей еще довольно неустойчивы. Для них характерна известная ситуативность: дети с интересом могут слушать рассказ учителя, но этот интерес исчезает вместе с его окончанием. Такого рода интересы можно характеризовать как эпизодические.
Как показывают исследования, в среднем школьном возрасте и широкие социальные мотивы учения и учебные интересы приобретают иной характер.
Среди широких социальных мотивов ведущим становится стремление учащихся найти свое место среди товарищей в классном коллективе. Обнаружилось, что желание хорошо учиться у подростков определяется больше всего их стремлением оказаться на уровне требований, предъявляемых товарищами, завоевать качеством своего учебного труда их авторитет. И наоборот, самой частой причиной недисциплинированного поведения школьников этого возраста, их недоброжелательного отношения к окружающим, возникновения у них отрицательных черт характера является неуспех в учении.
Существенные изменения претерпевают и мотивы, непосредственно связанные с самой учебной деятельностью. Их развитие идет в нескольких направлениях. Во-первых, интерес к конкретным фактам, расширяющим кругозор учащихся, начинает отступать на второй план, уступая место интересу к закономерностям, управляющим явлениями природы. Во-вторых, интересы учащихся этого возраста становятся более устойчивыми, дифференцируются по областям знаний и приобретают личностный характер. Этот личностный характер выражается в том, что интерес перестает быть эпизодическим, а становится как бы присущим самому ребенку и независимо от ситуации начинает побуждать его к активному поиску путей и средств своего удовлетворения. Важно отметить и еще одну черту такого познавательного интереса — его возрастание в связи с удовлетворением. В самом деле, получение ответа на тот или иной вопрос расширяет представления школьника об интересующем его предмете, а это с большей отчетливостью обнаруживает для него ограниченность собственных знаний. Последнее вызывает у ребенка еще большую потребность в их дальнейшем обогащении. Таким образом, личностный познавательный интерес приобретает, образно говоря, ненасыщаемый характер.
В отличие от подростков, у которых широкие социальные мотивы учения связаны прежде всего с условиями их школьной жизни и содержанием усваиваемых знаний, у школьников старшего возраста мотивы учения начинают воплощать их потребности и стремления, связанные с их будущей позицией в жизни и с их профессиональной трудовой деятельностью. Старшие школьники - это люди, обращенные в будущее, и все настоящее, в том числе и учение, выступает для них в свете этой основной направленности их личности. Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение становятся для них тем мотивационным центром, который определяет их деятельность, поведение и их отношение к окружающему.
Подводя итог исследованиям широких социальных мотивов учения школьников и их учебных (познавательных) интересов, можно выдвинуть некоторые положения, относящиеся к теоретическому пониманию потребностей и мотивов и их развития. Прежде всего стало очевидным, что побуждение к действию всегда исходит от потребности, а объект, который служит ее удовлетворению, определяет лишь характер и направление деятельности. При этом было установлено, что не только одна и та же потребность может воплощаться в различных объектах, но и в одном и том же объекте могут воплощаться самые разнообразные взаимодействующие, переплетающиеся, а иногда и противоречащие друг другу потребности. Например, отметка в качестве мотива учебной деятельности может воплощать в себе и потребность в одобрении учителя, и потребность быть на уровне своей собственной самооценки, и стремление завоевать авторитет товарищей, и желание облегчить себе поступление в высшее учебное заведение, и многие другие потребности. Отсюда ясно, что внешние объекты могут стимулировать активность человека лишь потому, что они отвечают имеющейся у него потребности или способны актуализировать ту, которую они удовлетворяли в предшествующем опыте человека.
В связи с этим изменение объектов, в которых воплощаются потребности, не составляет содержания развития потребностей, а является лишь показателем этого развития. Процесс же развития потребностей должен быть еще вскрыт и изучен. Однако на основании проведенного исследования некоторые из путей развития потребностей могут быть уже намечены.
Во-первых, это путь развития потребностей через изменение положения ребенка в жизни, в системе его взаимоотношений с окружающими людьми. На разных возрастных этапах ребенок занимает разное место в жизни, это определяет и разные требования, которые к нему предъявляет окружающая общественная среда. Ребенок же только тогда может испытать необходимое ему эмоциональное благополучие, когда он способен ответить предъявляемым требованиям. Это и порождает потребности, специфические для каждого возрастного этапа. В изложенном исследовании развития мотивов учебной деятельности школьника было обнаружено, что за изменением мотивов скрываются сначала потребности, связанные с новой социальной позицией школьника, затем с позицией ребенка в коллективе сверстников и, наконец, с позицией будущего члена общества. По-видимому, такой путь развития потребностей характерен не только для ребенка. Потребности взрослого человека также претерпевают изменения в связи с изменениями, происходящими в его образе жизни и в нем самом - его опыте, знаниях, в уровне его психического развития.
Во-вторых, новые потребности возникают у ребенка в процессе его развития в связи с усвоением им новых форм поведения и деятельности, с овладением готовыми предметами культуры. Так, например, у многих детей, научившихся читать, возникает потребность в чтении, научившихся слушать музыку - потребность в музыке, научившихся быть аккуратными - потребность в аккуратности, овладевших тем или иным спортом - потребность в спортивной деятельности. Таким образом, путь развития потребностей, который был указан Леонтьевым, несомненно, имеет место, только он не исчерпывает все направления развития потребностей и не раскрывает до конца его механизмы.
Третий вывод... заключается в том, что, помимо расширения круга потребностей и возникновения новых, происходит развитие внутри каждой потребности от элементарных ее форм к более сложным, качественно своеобразным. Этот путь особенно отчетливо обнаружился на развитии познавательных потребностей, происходящем в процессе учебной деятельности учащихся: от элементарных форм эпизодического учебного интереса до сложных форм в принципе неисчерпаемой потребности в теоретических знаниях.
И наконец, последний путь развития потребностей... это путь развития структуры мотивационной сферы ребенка, т.е. развитие соотношения взаимодействующих потребностей и мотивов.
Здесь имеет место изменение с возрастом и ведущих, доминирующих потребностей и своеобразной их иерархизации.
[Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – С. 408-412. ]
Выготский Л.С. Психологические подходы к проблеме соотношения обучения и развития
Вопрос об отношении обучения и развития ребенка в школьном возрасте представляет собой самый центральный и основной вопрос, без которого проблемы педагогической психологии… не могут быть не только правильно решены, но даже поставлены. Мы можем схематически свести все существующие решения об отношении развития и обучения к трем основным группам…
Первая группа решений, которая предлагалась в истории науки, имеет своим центром положение о независимости процессов детского развития от процессов обучения. Обучение в этих теориях рассматривается как чисто внешний процесс, который должен быть так или иначе согласован с ходом детского развития, но который сам по себе не участвует активно в детском развитии, ничего в нем не меняет и скорее использует достижения развития, чем подвигает самый его ход и изменяет его направление.
Развитие должно совершить свои определенные законченные циклы, определенные функции должны созреть прежде, чем школа может приступить к обучению определенным знаниям и навыкам ребенка. Циклы развития всегда предшествуют циклам обучения. Обучение плетется в хвосте у развития, развитие всегда идет впереди обучения. Уже благодаря одному этому наперед исключается всякая возможность поставить вопрос о роли самого обучения в ходе развития и созревания тех функций, которые активируются ходом обучения. Их развитие и созревание являются скорее предпосылкой, чем результатом обучения. Обучение надстраивается над развитием, ничего не меняя в нем по существу.
Вторая группа решений этого вопроса может быть объединена, как вокруг своего центра, вокруг противоположного тезиса, который гласит, что обучение и есть развитие. Это есть самая сжатая и точная формула, которая выражает самую сущность этой группы теорий. Сами эти теории возникают на самой различной основе.
С первого взгляда может показаться, что эта точка зрения является гораздо более прогрессивной по сравнению с предыдущей, ибо если та в основу клала полное разъединение процессов обучения и развития, то эта придает обучению центральное значение в ходе детского развития. Однако ближайшее рассмотрение этой второй группы решений показывает, что при всей видимой противоположности этих двух точек зрения они в основном пункте совпадают и оказываются очень похожими друг на друга.
Однако при всем сходстве обеих теорий в них есть и существенное различие, которое можно наиболее ясно представить, если обратить внимание на временную связь процессов обучения и процессов развития. Как мы видели раньше, авторы первой теории утверждали, что циклы развития предшествуют циклам обучения. Созревание идет впереди обучения. Школьный процесс плетется в хвосте психического формирования. Для второй теории оба эти процесса совершаются равномерно и параллельно, так что каждый шаг в обучении соответствует шагу в развитии. Развитие следует за обучением, как тень следует за отбрасывающим ее предметом. Даже это сравнение кажется слишком смелым для взглядов этой теории, ибо она исходит из полного слияния и отождествления процессов развития и обучения, не различая их вовсе, и, следовательно, предполагает еще более тесную связь и зависимость между обоими процессами. Развитие и обучение для этой теории совпадают друг с другом во всех точках…
Третья группа теорий пытается преодолеть крайности одной и другой точки зрения путем простого их совмещения. С одной стороны, процесс развития мыслится как процесс, независимый от обучения; с другой стороны, самое обучение, в процессе которого ребенок приобретает целый ряд новых форм поведения, мыслится также тождественным с развитием. Таким образом, создаются дуалистические теории развития.
Новыми в этой теории являются 3 момента. Во-первых, как уже указано, соединение двух противоположных точек зрения, из которых каждая в истории науки, как это описано выше, встречались раньше порознь. Уже самый факт соединении в одной теории этих точек зрения говорит за то, что эти точки зрения не являются противоположными и исключающими друг друга, но в сущности имеют между собой нечто общее.
Вторым новым моментом в этой теории является идея взаимной зависимости, взаимного влияния двух, основных процессов, из которых складывается развитие... Процесс обучения как бы стимулирует и продвигает вперед процесс созревания.
Наконец, третьим и самым существенным новым моментом этой теории является расширение роли обучения в ходе детского развития.
Три рассмотренные нами теории, по-разному решая вопрос об отношении обучения и развития, позволяют нам, отталкиваясь от них, наметить более правильное решение того же самого вопроса. Исходным моментом для него мы считаем тот факт, что обучение ребенка начинается задолго до школьного обучения. В сущности говоря, школа никогда не начинает на пустом месте. Всякое обучение, с которым ребенок сталкивается в школе, всегда имеет свою предысторию. Например, ребенок начинает в школе проходить арифметику. Однако задолго до того, как он поступит в школу, он имеет уже некоторый опыт в отношении количества, ему уже приходилось сталкиваться с теми или иными операциями деления, определениями величины, сложения и вычитания, следовательно, у ребенка есть своя дошкольная арифметика.
Линия школьного обучения не является прямым продолжением линии дошкольного развития ребенка в какой-нибудь области, она может, кроме того, повернуться в сторону в известных отношениях, может быть даже противоположно направлена по отношению к линии дошкольного развития. Но все равно, будем ли мы иметь дело в школе с прямым продолжением дошкольного обучения или с его отрицанием, мы не можем игнорировать того обстоятельства, что школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда имеет перед собой уже определенную стадию детского развития, проделанную ребенком до поступления в школу
Само собою разумеется, что этот процесс обучения, как он имеет место до наступления школьного возраста, существенно отличается от процесса школьного обучения, который имеет дело с усвоением основ научных знаний. Но даже тогда, когда ребенок в период первых вопросов усваивает названия окружающих его предметов, он, в сущности говоря, проходит известный цикл обучения. Таким образом, обучение и развитие не встречаются впервые в школьном возрасте, но фактически связаны друг с другом с самого первого дня жизни ребенка.
Таким образом, вопрос, который мы должны поставить себе, приобретает двойную сложность. Он распадается как бы на 2 отдельных вопроса. Мы должны, во-первых, понять отношение, которое существует между обучением и развитием вообще, и затем мы должны понять, каковы специфические особенности этого отношения в школьном возрасте.
Начнем со второго вопроса, который позволит нам выяснить и интересующий нас первый вопрос. Для определения этого мы остановимся на результатах некоторых исследований, имеющих, с нашей точки зрения, принципиальное значение для всей нашей проблемы и позволяющих внести в науку новое понятие чрезвычайной важности, без которого рассматриваемый нами вопрос не может быть правильно решен. Речь идет о так называемой зоне ближайшего развития.
Что обучение так или иначе должно быть согласовано с уровнем развития ребенка — это есть эмпирически установленный и многократно проверенный факт, который невозможно оспаривать. Что грамоте можно начинать обучать ребенка только с определенного возраста, что только с определенного возраста ребенок становится способным к изучению алгебры — это едва ли нуждается в доказательствах. Таким образом, определение уровня развития и его отношения к возможности обучения составляет незыблемый и основной факт, от которого мы можем смело отправляться как от несомненного.
Однако только в недавнее время было обращено внимание на то, что одним только определением уровня развития мы не можем никогда ограничиться, когда пытаемся определить реальные отношения процесса развития к возможности обучения. Мы должны определить по меньшей мере два уровня развития ребенка без знания которых мы не сумеем в каждом конкретном случае найти верное отношение между ходом детского развития и возможностями его обучения. Первый назовем уровнем актуального развития ребенка. Мы имеем в виду тот уровень развития психических функций ребенка, который сложился в результате определенных, уже завершившихся циклов его развития.
Перед нами два ребенка с одинаковым умственным возрастом в 7 лет, но один из них при малейшей помощи решает задачи на 9 лет, другой — на 7 с половиной. Одинаково ли умственное развитие обоих этих детей? С точки зрения самостоятельной их деятельности одинаково, но с точки зрения ближайших возможностей развития они резко расходятся. То, что ребенок оказывается в состоянии сделать с помощью взрослого, указывает нам на зону его ближайшего развития. Это значит, что с помощью этого метода мы можем учесть не только законченный уже на сегодняшний день процесс развития, не только уже завершенные его циклы, не только проделанные уже процессы созревания, но и те процессы, которые сейчас находятся в состоянии становления, которые только созревают, только развиваются.
То, что ребенок сегодня делает с помощью взрослых, завтра он сумеет сделать самостоятельно. Таким образом, зона ближайшего развития поможет нам определить завтрашний день ребенка, динамическое состояние его развития, учитывающее не только уже достигнутое в развитии, но и находящееся в процессе созревания. Двое детей в нашем примере показывают одинаковый умственный возраст с точки зрения уже завершенных циклов развития, но динамика развития у них совершенно разная. Таким образом, состояние умственного развития ребенка может быть определено по меньшей мере с помощью выяснения двух его уровней — уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Этот сам по себе, казалось бы, мало значительный факт на самом деле имеет решающее принципиальное значение и вносит переворот во все учение об отношении между процессом обучения и развития ребенка. Прежде всего он изменяет традиционную точку зрения на вопрос о том, каким образом должны быть сделаны педагогические выводы из диагностики развития. Прежде дело представлялось в таком виде: с помощью тестового испытания мы определяем уровень умственного развития ребенка, с которым педагогика должна считаться, за границу которого она не должна выступать.
Таким образом, уже в самой постановке этого вопроса заключается мысль о том, что обучение должно ориентироваться на вчерашний день в развития ребенка, на уже пройденные и завершенные его этапы.
Ошибочность такого взгляда на практике была открыта раньше, чем сделалась ясной в теории. Яснее всего это может быть показано на примере обучения умственно отсталых детей. Как известно, исследование устанавливает, что умственно отсталый ребенок оказывается малоспособным к отвлеченному мышлению. Отсюда педагогика вспомогательной школы сделала, казалось бы, правильный вывод относительно того, что все обучение такого ребенка должно быть основано на наглядности. Большой опыт в этом отношении привел, однако, специальную педагогику к глубокому разочарованию. Оказалось, что такая система обучения, которая базируется исключительно на наглядности и исключает из преподавания все, что связано с отвлеченным мышлением, не только не помогает ребенку преодолеть свой природный недостаток, но еще закрепляет этот недостаток, приучая ребенка исключительно наглядному мышлению и заглушая в нем те слабые начатки отвлеченного мышления, которые все же имеются и у такого ребенка. Именно потому, что умственно отсталый ребенок, предоставленный сам себе, никогда не достигнет сколько-нибудь развитых форм отвлеченного мышления, задача школы заключается в том, чтобы всеми силами продвигать ребенка именно в этом направлении, развивать у него то, что само по себе является в его развитии недостаточным. И в современной педагогике вспомогательной школы мы наблюдаем этот благодетельный поворот от такого понимания наглядности, который и сам методам наглядного обучения придает их истинное значение. Наглядность оказывается нужной и неизбежной только как ступень для развития отвлеченного мышления, как средство, но не как самоцель.
Нечто в высшей степени близкое происходит и в развитии нормального ребенка. Обучение, которое ориентируется на уже завершенные циклы развития, оказывается бездейственным с точки зрения общего развития ребенка, оно не ведет за собой процесса развития ребенка, а само плетется у него в хвосте.
В отличие от старой точки зрения учение о зоне ближайшего развития позволяет выдвинуть противоположную формулу, гласящую, что только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развитию.
Мы знаем из целого ряда исследований... что ход развития высших психических функций ребенка, специфических для человека, вскрывшихся в процессе исторического развития человечества представляет собой в высшей степени своеобразный процесс. В другом месте мы сформулировали основной закон развития высших психических функций в следующем виде: всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на сцене дважды: сперва как деятельность коллективная, социальная деятельность, т.е. как функция интерпсихическая (во взаимодействии), второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка, как функция интрапсихическая (внутренняя).
Мы не боялись бы после всего сказанного утверждать, что существенным признаком обучения является тот факт, что обучение создает зону ближайшего развития, т. е. вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение целый ряд внутренних процессов, которые сейчас являются для ребенка еще возможными только в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с товарищами, но которые, проделывая внутренний ход развития, становятся затем внутренним достоянием самого ребенка.
Обучение с этой точки зрения не есть развитие, но правильно организованное обучение ребенка ведет за собой детское умственное развитие, вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными. Обучение есть, таким образом, внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных, но исторических особенностей человека.
Точно так же, как ребенок глухонемых родителей, не слышавший вокруг себя речи, остается немым несмотря на то, что у него есть все природные задатки для развития речи, а вместе с тем у него не развиваются и те высшие психические функции, которые связаны с речью, точно так же и всякий процесс обучения является источником развития, вызывающим к жизни ряд таких процессов, которые без него вообще в развитии возникнуть не могут.
Мы можем попытаться сейчас подытожить сказанное и сформулировать и общем виде найденное нами отношение между процессами обучения и процессами развития. Забегая вперед, скажем, что все экспериментальные исследования относительно психологической природы процессов обучения арифметике, письменной речи, естествознанию и другим предметам в начальной школе показывают, что все эти процессы обучения вращаются, как вокруг оси, вокруг основных новообразований школьного возраста. Все сплетено с центральными нервами развития школьника. Сами линии школьного обучения пробуждают внутренние процессы развития. Проследить возникновение и судьбу этих внутренних линий развития, возникающих в связи с ходом школьного обучения, и составляет прямую задачу анализа педагогического процесса.
Самым существенным для выдвигаемой здесь гипотезы является положение о том, что процессы развития не совпадают с процессами обучения, что процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающими зоны ближайшего развития.
Вторым существенным моментом гипотезы является представление о том, что хотя обучение и связано непосредственно с ходом детского развития, тем не менее они никогда не совершаются равномерно и параллельно друг другу. Развитие ребенка никогда не следует, как тень за отбрасывающим ее предметом, за школьным обучением. Поэтому тесты школьных достижений никогда не отражают реального хода детского развития. В самом деле, между процессом развития и процессом обучения устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперед данной, априорной умозрительной формулой.
[Проблема умственного развития в школьном возрасте / Л.С. Выготский. Педагогическая психология. – М.,1991. – С. 374-390.]
Л.И. Божович. Проблема развития мотивационной сферы ребенка
Часть II
ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ УЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Л.И. Божович. Проблема развития мотивационной сферы ребенка
Излагая исследование мотивов учебной деятельности школьников, мы будем называть мотивами все побудители этой деятельности.
В результате исследования было установлено, что учебная деятельность школьников побуждается целой системой разнообразных мотивов.
Для детей разного возраста и для каждого ребенка не все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни из них являются основными, ведущими, другие - второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние всегда так или иначе подчинены ведущим мотивам. В одних случаях таким ведущим мотивом может оказаться стремление завоевать место отличника в классе, в других случаях - желание получить высшее образование, в третьих - интерес к самим знаниям.
Все эти мотивы учения могут быть подразделены на две большие категории. Один из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие - с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; другие связаны с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений.
Исследование обнаружило, что обе эти категории мотивов необходимы для успешного осуществления не только учебной, но и любой другой деятельности. Мотивы, идущие от самой деятельности, оказывают непосредственное воздействие на субъект, помогая ему преодолевать встречающиеся трудности, препятствующие целенаправленному и систематическому ее осуществлению. Функция другого вида мотивов совсем иная: будучи порождены всем социальным контекстом, в котором протекает жизнь субъекта, они могут побуждать его деятельность посредством сознательно поставленных целей, принятых решений, иногда даже независимо от непосредственного отношения человека к самой деятельности.
Для нравственного воспитания учащихся далеко не безразлично, каково содержание широких социальных мотивов их учебной деятельности. Исследования показывают, что в одних случаях школьники воспринимают учение как свой общественный долг, как особую форму участия в общественном труде взрослых. В других - они рассматривают его лишь как средство получить в будущем выгодную работу и обеспечить свое материальное благополучие. Следовательно, широкие социальные мотивы могут воплощать в себе подлинно общественные потребности школьника, но могут представлять собой и личные, индивидуалистические или эгоистические побуждения, а это в свою очередь определяет формирующийся моральный облик ученика.
В исследовании было также установлено, что и та и другая категория мотивов характеризуется специфическими особенностями на разных этапах развития ребенка. Анализ особенностей мотивации учения у школьников разных возрастов обнаружил закономерный ход изменений мотивов учения с возрастом и условия, способствующие этому изменению.
У детей, поступающих в школу, как показало исследование, широкие социальные мотивы выражают возникающую в старшем дошкольном возрасте потребность занять новое положение среди окружающих, а именно положение школьника, и стремление выполнять связанную с этим положением серьезную, общественно значимую деятельность.
Вместе с тем у детей, поступающих в школу, имеется и определенный уровень развития познавательных интересов. Первое время и те и другие мотивы обеспечивают добросовестное, можно даже сказать, ответственное отношение учащихся к учению в школе. В I и II классах такое отношение не только продолжает сохраняться, но даже усиливается и развивается.
Однако постепенно это положительное отношение маленьких школьников к учению начинает утрачиваться. Переломным моментом, как правило, является III класс. Здесь уже многие дети начинают тяготиться школьными обязанностями, их старательность уменьшается, авторитет учителя заметно падает. Существенной причиной указанных изменений является прежде всего то, что к III - IV классам их потребность в позиции школьника является уже удовлетворенной и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную привлекательность. В связи с этим и учитель также начинает занимать в жизни детей иное место. Он перестает быть центральной фигурой в классе, способной определять и поведение детей и их взаимоотношения. Постепенно у школьников возникает собственная сфера жизни, появляется особенный интерес к мнению товарищей, независимо от того, как на то или иное смотрит учитель. На этом этапе развития уже не только мнение учителя, но и отношение детского коллектива обеспечивает переживание ребенком состояния большего или меньшего, эмоционального благополучия.
Широкие социальные мотивы имеют настолько большое значение в юном возрасте, что в известной мере определяют и непосредственный интерес школьников к самой учебной деятельности. В первые 2-3 года учения в школе им интересно делать все, что предлагает учитель, все, что имеет характер серьезной общественно значимой деятельности.
Специальное изучение процесса формирования познавательных интересов... позволило выявить их специфику на разных этапах возрастного развития школьников. В начале обучения познавательные интересы детей еще довольно неустойчивы. Для них характерна известная ситуативность: дети с интересом могут слушать рассказ учителя, но этот интерес исчезает вместе с его окончанием. Такого рода интересы можно характеризовать как эпизодические.
Как показывают исследования, в среднем школьном возрасте и широкие социальные мотивы учения и учебные интересы приобретают иной характер.
Среди широких социальных мотивов ведущим становится стремление учащихся найти свое место среди товарищей в классном коллективе. Обнаружилось, что желание хорошо учиться у подростков определяется больше всего их стремлением оказаться на уровне требований, предъявляемых товарищами, завоевать качеством своего учебного труда их авторитет. И наоборот, самой частой причиной недисциплинированного поведения школьников этого возраста, их недоброжелательного отношения к окружающим, возникновения у них отрицательных черт характера является неуспех в учении.
Существенные изменения претерпевают и мотивы, непосредственно связанные с самой учебной деятельностью. Их развитие идет в нескольких направлениях. Во-первых, интерес к конкретным фактам, расширяющим кругозор учащихся, начинает отступать на второй план, уступая место интересу к закономерностям, управляющим явлениями природы. Во-вторых, интересы учащихся этого возраста становятся более устойчивыми, дифференцируются по областям знаний и приобретают личностный характер. Этот личностный характер выражается в том, что интерес перестает быть эпизодическим, а становится как бы присущим самому ребенку и независимо от ситуации начинает побуждать его к активному поиску путей и средств своего удовлетворения. Важно отметить и еще одну черту такого познавательного интереса - его возрастание в связи с удовлетворением. В самом деле, получение ответа на тот или иной вопрос расширяет представления школьника об интересующем его предмете, а это с большей отчетливостью обнаруживает для него ограниченность собственных знаний. Последнее вызывает у ребенка еще большую потребность в их дальнейшем обогащении. Таким образом, личностный познавательный интерес приобретает, образно говоря, ненасыщаемый характер.
В отличие от подростков, у которых широкие социальные мотивы учения связаны прежде всего с условиями их школьной жизни и содержанием усваиваемых знаний, у школьников старшего возраста мотивы учения начинают воплощать их потребности и стремления, связанные с их будущей позицией в жизни и с их профессиональной трудовой деятельностью. Старшие школьники - это люди, обращенные в будущее, и все настоящее, в том числе и учение, выступает для них в свете этой основной направленности их личности. Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение становятся для них тем мотивационным центром, который определяет их деятельность, поведение и их отношение к окружающему.
Подводя итог исследованиям широких социальных мотивов учения школьников и их учебных (познавательных) интересов, можно выдвинуть некоторые положения, относящиеся к теоретическому пониманию потребностей и мотивов и их развития.
Прежде всего стало очевидным, что побуждение к действию всегда исходит от потребности, а объект, который служит ее удовлетворению, определяет лишь характер и направление деятельности. При этом было установлено, что не только одна и та же потребность может воплощаться в различных объектах, но и в одном и том же объекте могут воплощаться самые разнообразные взаимодействующие, переплетающиеся, а иногда и противоречащие друг другу потребности. Например, отметка в качестве мотива учебной деятельности может воплощать в себе и потребность в одобрении учителя, и потребность быть на уровне своей собственной самооценки, и стремление завоевать авторитет товарищей, и желание облегчить себе поступление в высшее учебное заведение, и многие другие потребности. Отсюда ясно, что внешние объекты могут стимулировать активность человека лишь потому, что они отвечают имеющейся у него потребности или способны актуализировать ту, которую они удовлетворяли в предшествующем опыте человека.
В связи с этим изменение объектов, в которых воплощаются потребности, не составляет содержания развития потребностей, а является лишь показателем этого развития. Процесс же развития потребностей должен быть еще вскрыт и изучен. Однако на основании проведенного исследования некоторые из путей развития потребностей могут быть уже намечены.
Во-первых, это путь развития потребностей через изменение положения ребенка в жизни, в системе его взаимоотношений с окружающими людьми. На разных возрастных этапах ребенок занимает разное место в жизни, это определяет и разные требования, которые к нему предъявляет окружающая общественная среда. Ребенок же только тогда может испытать необходимое ему эмоциональное благополучие, когда он способен ответить предъявляемым требованиям. Это и порождает потребности, специфические для каждого возрастного этапа. В изложенном исследовании развития мотивов учебной деятельности школьника было обнаружено, что за изменением мотивов скрываются сначала потребности, связанные с новой социальной позицией школьника, затем с позицией ребенка в коллективе сверстников и, наконец, позицией будущего члена общества. По-видимому, такой путь развития потребностей характерен не только для ребенка. Потребности взрослого человека также претерпевают изменения в связи с изменениями, происходящими в его образе жизни и в нем самом - его опыте, знаниях, в уровне его психического развития.
Bo-вторых, потребности возникают у ребенка в процессе его развития в связи с усвоением им новых форм поведения и деятельности, с овладением готовыми предметами культуры. Так, например, у многих детей, научившихся читать, возникает потребность в чтении, научившихся слушать музыку - потребность в музыке, научившихся быть аккуратными - потребность в аккуратности, овладевших тем или иным спортом - потребность в спортивной деятельности. Таким образом, путь развития потребностей, который был указан Леонтьевым, несомненно, имеет место, только он не исчерпывает все направления развития потребностей и не раскрывает до конца его механизмы.
Третий вывод, заключается в том, что, помимо расширения круга потребностей и возникновения новых, происходит развитие внутри каждой потребности от элементарных ее форм к более сложным, качественно своеобразным. Этот путь особенно отчетливо обнаружился на развитии познавательных потребностей, происходящем в процессе учебной деятельности учащихся: от элементарных форм эпизодического учебного интереса до сложных форм в принципе неисчерпаемой потребности в теоретических знаниях.
И наконец, последний путь развития потребностей... это путь развития структуры мотивационной сферы ребенка, т.е. развитие соотношения взаимодействующих потребностей и мотивов.
Здесь имеет место изменение с возрастом и ведущих, доминирующих потребностей и своеобразной их иерархизации.
Изучение мотивации поведения детей и подростков Под ред. Л.И. Божович и Л.В. Благонадежииой. М., 1972, с.22-29
% PDF-1.4 % 360 0 объект > endobj xref 360 50 0000000016 00000 н. 0000002155 00000 н. 0000002320 00000 н. 0000002799 00000 н. 0000003077 00000 н. 0000003555 00000 н. 0000004049 00000 н. 0000004622 00000 н. 0000004736 00000 н. 0000004848 00000 н. 0000005390 00000 н. 0000005665 00000 н. 0000006322 00000 п. 0000007038 00000 п. 0000007065 00000 н. 0000007735 00000 н. 0000007877 00000 н. 0000008608 00000 н. 0000009169 00000 п. 0000009792 00000 н. 0000010378 00000 п. 0000010492 00000 п. 0000011072 00000 п. 0000012620 00000 п. 0000013052 00000 п. 0000013122 00000 п. 0000013231 00000 п. 0000058439 00000 п. 0000058722 00000 п. 0000059300 00000 п. 0000103160 00000 н. 0000103429 00000 н. 0000135802 00000 н. 0000170199 00000 н. 0000170740 00000 н. 0000171312 00000 н. 0000171601 00000 н. 0000181331 00000 н. 0000181394 00000 н. 0000181625 00000 н. 0000181680 00000 н. 0000181763 00000 н. 0000181841 00000 н. 0000181880 00000 н. 0000189235 00000 н. 0000189770 00000 н. 0000190241 00000 н. 0000190365 00000 н. 0000001972 00000 н. 0000001322 00000 н. трейлер ] / Предыдущая 284471 / XRefStm 1972 >> startxref 0 %% EOF 409 0 объект > поток hb```b``kc`2 @ (sn7ry {B8Q NYB} k 0ZdjxhiNH, 'dT6Ln͆ = jy ^ m} yO: ye7> * q] {* yKOʇ # xriKF} Xf%! = Skz & | ^ so [üvU96 ra ݭ BAIAk
.границ | Развитие и пластичность когнитивной гибкости в раннем и среднем детстве
Введение
Когнитивная гибкость, способность переключаться между различными задачами или целями, считается ключевым аспектом исполнительных функций (EF), позволяющим людям адаптивно регулировать свои мысли и действия (например, Miyake et al., 2000; Jurado and Rosselli, 2007) . В литературе это также называется смещением, переключением внимания или переключением задач и включает в себя как способность отвлечься от нерелевантной информации в предыдущем задании, так и сосредоточиться на соответствующей информации в предстоящей задаче (Monsell, 2003).Таким образом, когнитивная гибкость позволяет мыслить дивергентно, менять точку зрения и адаптироваться к постоянно меняющейся среде.
Что касается структуры EF, то в более ранних моделях предполагалось, что это унитарная конструкция (например, Duncan et al., 1997) или набор диссоциируемых управляющих компонентов (например, Stuss and Alexander, 2000). Более поздние подходы показали единство и разнообразие EF в интегративных рамках (например, Miyake et al., 2000; Garon et al., 2008). Модель Мияке, например, предполагает, что основные навыки EF включают в себя рабочую память (WM), тормозящий контроль и когнитивную гибкость.Важно отметить, что эта структура подвержена изменениям в процессе развития, с переходом от единственного латентного фактора EF к разделению компонентов процессов от раннего детства до школьного возраста и подросткового возраста (например, Huizinga et al., 2006; Wiebe et al., 2008, 2011) .
Важно отметить, что эмоциональная гибкость в целом и когнитивная гибкость в частности способствуют достижению ряда важных жизненных результатов, таких как академическая успеваемость (обзор: Titz and Karbach, 2014). Colé et al. (2014), например, показали, что когнитивная гибкость предопределяет навыки чтения у второклассников, а недавний метаанализ показал, что когнитивная гибкость является важным предиктором как математических навыков, так и навыков чтения у детей в возрасте от 4 до 13 лет (Yeniad et al. al., 2013). Учитывая тесную взаимосвязь между гибкостью и успеваемостью, неудивительно, что многие исследования были нацелены на тренировку гибкости для улучшения успеваемости детей в классе (обзор: Titz and Karbach, 2014; метаанализ: Schwaighofer et al., 2015) . Мы сосредоточимся на таких тренировочных эффектах в последнем разделе этого обзора. В следующем разделе мы сначала опишем развитие когнитивной гибкости.
Развитие когнитивной гибкости
Младенцы первого года жизни уже демонстрируют основные формы EF (Carpenter et al., 1998), но основные компоненты (WM, торможение и гибкость; Miyake et al., 2000) быстро развиваются в дошкольном возрасте (Hughes, 1998). Исследования, посвященные развитию на протяжении всей жизни, показывают, что ФВ продолжает развиваться в детстве (например, Davidson et al., 2006) вплоть до подросткового возраста (например, Huizinga and van der Molen, 2007) и раннего взросления (например, Anderson et al., 2001). Однако в этом обзоре мы сосредоточимся на дошкольном и младшем школьном возрасте. Мы проиллюстрируем изменения гибкости в процессе развития, обратившись к двум широко используемым парадигмам оценки когнитивной гибкости детей: задаче «Сортировка карты изменения измерений» (DCCS; Zelazo, 2006) и парадигме переключения задач (Monsell, 2003).
Большинство исследований дошкольников применяли DCCS для проверки когнитивной гибкости. В этом задании детям показывают карточки с изображениями, отображающими два измерения (например, цвет и форму), и просят отсортировать эти карточки по одному измерению (например, по цвету) (фаза перед переключением). В какой-то момент участникам предлагается отсортировать карточки по другому измерению (то есть по форме) (фаза после переключения). В то время как дети в возрасте от 4 лет могут менять правила, 3-летние обычно настойчивы и продолжают применять первое правило, когда им следует применять второе (например,г., Зелазо, 2006; Doebel and Zelazo, 2015). Успеваемость продолжает улучшаться с возрастом, поскольку дети могут применять правила более высокого порядка и выполнять более сложные задачи (например, Chevalier and Blaye, 2009; Diamond, 2013), например парадигма переключения задач. В этом задании детям предлагается выполнить две задачи (A и B), например, две простые задачи категоризации. В однозадачных блоках участники выполняют обе задачи по отдельности (например, AAA, BBB), но в смешанных блоках они должны переключаться между обеими задачами (например, AAA, BBB).г., AABBAABB). Эта парадигма позволяет оценить два различных компонента когнитивной гибкости - способность переключаться с одного правила / задачи на другое, а также поддержание и выбор наборов задач в WM. Карбах и Край (2007) тестировали детей в возрасте от 5 до 6 и 9 лет на основе парадигмы переключения задач. В задании A дети должны были классифицировать стимулы как фрукты или животные, а в задании B они должны были указать, было ли изображение представлено в цвете или сером. Результаты показали возрастное улучшение способности выполнять и выбирать задачи, но не способности переключаться между задачами.Эти разные траектории развития процессов, обеспечивающих когнитивную гибкость, были подтверждены другими исследованиями, в которых применялись задачи переключения и рассматривались более широкий диапазон возрастов (например, Cepeda et al., 2001; Crone et al., 2004; Reimers and Maylor, 2005; Huizinga and van der Molen, 2007; Kray et al., 2008). Например, Хейзинга и ван дер Молен (2007) изучали изменения в развитии при переключении и поддержании и обнаружили, что дети достигают взрослого уровня способностей переключения к 11 годам, в то время как способности к выполнению задач созревают только в возрасте 15 лет.В целом, эти результаты указывают на более раннее созревание переключения задач, чем способность поддерживать и выбирать задачи.
Траектории развития EF были связаны с изменениями созревания префронтальной коры (PFC) и связанных с ней корковых и подкорковых структур, включая теменные области и базальные ганглии (например, Casey et al., 2005; Bunge and Wright, 2007). Некоторые области внутри PFC, такие как орбитофронтальная кора, достигают структурной зрелости в более раннем возрасте, тогда как другие, такие как дорсолатеральный PFC, демонстрируют более продолжительный временной ход созревания (Gogtay et al., 2004). Имеются данные, в том числе исследования с использованием DCCS и парадигмы переключения задач, предполагающие, что эти различия в структурном созревании параллельны изменениям в функциональном созревании и, следовательно, могут объяснять различные траектории развития между EFs (Bunge and Zelazo, 2006).
Например, в исследовании Moriguchi и Hiraki (2009) оценивались 3- и 5-летние дети, а также взрослые с задачей DCCS с использованием NIRS (ближней инфракрасной спектроскопии). Результаты для 3-летнего ребенка показали, что только некоторые 3-летние дети, которые выполнили задание, показали значительную активацию в правом нижнем ПФК.Напротив, у 5-летних и взрослых эта активация была двусторонней (см. Также Moriguchi and Hiraki, 2014). Этот результат согласуется с результатами другого лонгитюдного исследования (Moriguchi and Hiraki, 2011), в котором тестировались дети в возрасте 3 и 4 лет. В отличие от 3-летнего возраста, 4-летние дети успешно справились с заданием и продемонстрировали повышенную активацию левой нижней ПФК (см. Morton et al., 2009). Наряду с открытием того факта, что функциональная связь между латеральной ПФК и нижней теменной корой увеличивается с возрастом детей (Ezekiel et al., 2013), эти результаты дополняют доказательства того, что ПФК играет ключевую роль в развитии когнитивной гибкости.
Исследования с использованием парадигмы переключения задач подтверждают эти возрастные различия в активации мозга. Rubia et al. (2006), например, обнаружили связанное с возрастом увеличение задействования нескольких областей мозга, которые участвуют в когнитивной гибкости, включая правую нижнюю ПФК, левую теменную кору, переднюю поясную извилину (АКК) и полосатое тело. Более того, существуют нейробиологические доказательства, подтверждающие различные траектории развития переключения задач и поддержания / выбора задач: Crone et al.(2006) протестировали детей, подростков и взрослых и обнаружили похожую на взрослых модель активации переключения задач в преддополнительной моторной области к подростковому возрасту. Напротив, активация для поддержания задачи и выбора в вентролатеральном ПФК различалась у детей, подростков и взрослых (см. Wendelken et al., 2012, где описываются похожие модели активации у детей и взрослых, но разное время, что больше указывает на изменение). во временной динамике, а не в качественных изменениях в процессе развития).
Взятые вместе, результаты поведенческой и нейровизуализации демонстрируют, что когнитивная гибкость быстро увеличивается в раннем и среднем детстве, предполагая, что это может быть период высокой пластичности и пластичности, чувствительный к изменениям, связанным с развитием, а также к изменениям, обусловленным окружающей средой. Поэтому неудивительно, что многие исследования были сосредоточены на вмешательствах, направленных на поддержку развития ФВ. Эти вмешательства варьируются от школьных программ и программ, основанных на учебных программах, до режимов физической и когнитивной тренировки (обзоры см. В Diamond, 2012; Karbach and Unger, 2014).
Пластичность когнитивной гибкости - эффекты обучения и передачи
Когда дело доходит до тренировки EF, большинство существующих исследований развития определенно нацелены на WM (обзоры см. Könen et al., 2016; Rueda et al., 2016). Тем не менее, существует несколько исследований, посвященных обучению когнитивной гибкости в раннем и среднем детстве. В то время как некоторые тренируют несколько компонентов EF одновременно (например, Röthlisberger et al., 2012; Traverso et al., 2015), другие уделяют особое внимание когнитивной гибкости.Мы проиллюстрируем это направление исследований, рассмотрев вмешательства с применением DCCS и парадигмы переключения задач. Мы будем сообщать учебные эффекты, а также доказательства для передачи выгод обучения, связанных с неподготовленными задачами и способностями, которые в последнее время были обсуждены очень спорны в обществе (например, Shipstead и др., 2012).
Клоо и Пернер (2003) обучили трех- и четырехлетних детей работе с DCCS. До и после обучения дети выполняли DCCS и задание на ложное убеждение (а также ряд контрольных заданий), включая новую версию DCCS с различными тестами и целевыми карточками на пост-тесте.Дети в обучающей группе DCCS показали более значительные улучшения в DCCS и задаче ложного убеждения, чем дети в контрольной группе. Они также превзошли контрольную группу по новой задаче DCCS. Таким образом, тренировка принесла не только пользу когнитивной гибкости, но и перевела на понимание ложных убеждений. Также тренируя выполнение DCCS, van Bers et al. (2014) изучали влияние обратной связи на когнитивную гибкость у 3-летнего ребенка. Обеспечение обратной связи по сортировке после переключения улучшило производительность DCCS по сравнению со стандартным условием без обратной связи.Важно отметить, что эти достижения были перенесены на новую версию DCCS, вводимую сразу после тренировки, а также через 1 неделю.
В ряде исследований у детей школьного возраста применялась парадигма переключения задач для тренировки когнитивной гибкости. Применяя подход к продолжительности жизни, Cepeda et al. (2001) протестировали выборку в возрасте от 7 до 82 лет по блокам для одно- и смешанных заданий ( N = 152). После трех тренировочных занятий участники - и особенно дети - значительно улучшили выполнение и выбор задач (Kray et al., 2008).
Следуя этим достижениям в обучении, другие исследования изучали, переносится ли обучение с переключением задач на нетренированные задачи и области (например, Karbach and Kray, 2009; Zinke et al., 2012). Карбах и Край (2009) попросили детей (8–10 лет), а также более молодых и пожилых людей ( N = 168) провести четыре занятия с переключением задач. Результаты показали, что тренировка улучшила производительность в нетренированной задаче переключения по сравнению с контрольной группой, выполняющей однозадачную тренировку.Кроме того, тренировки также улучшили торможение, вербальный и зрительно-пространственный WM и подвижный интеллект. Основываясь на переходе на WM и торможении, другое исследование проверило эффекты обучения с переключением задач у детей с СДВГ, потому что они обычно показывают значительные дефициты в этих областях. И действительно, четыре сеанса переключения тренировок привели к значительным улучшениям в нетренированной задаче переключения, торможении и WM у мальчиков от 7 до 12 лет с СДВГ ( N = 20; Kray et al., 2012).
Эти данные показывают, что тренировка когнитивной гибкости может быть ключевым фактором для улучшения других параметров эмоционального интеллекта. Тем не менее, следует отметить, что перенос был менее выражен в других исследованиях: Zinke et al. (2012) оценили влияние тренировки с переключением задач в возрасте от 10 до 14 лет ( N = 80). После трех тренировочных сессий участники продемонстрировали значительный прогресс в тренировках, а также переход к нетренированной задаче переключения, но без перехода на торможение. Эти эффекты отражают данные от 8 до 11 лет, выполняющих обучение с переключением задач, встроенное в игровую среду (Dörrenbächer et al., 2014).
Таким образом, тренировочные режимы, основанные на DCCS и переключении задач, привели к значительному улучшению когнитивной гибкости в детстве и подростковом возрасте. Более того, есть данные, показывающие, что они могут привести к переносу в другие измерения EF, даже несмотря на то, что результаты переноса тренировки переключения неоднородны, как и для других типов когнитивной тренировки (обзоры см. В Karbach and Kray, 2016; Könen и др., 2016). Однако существующие исследования почти исключительно анализировали данные на уровне группы и игнорировали индивидуальные различия в достижениях, вызванных тренировками.Учитывая, что даже люди, участвующие в одном и том же режиме тренировок, как правило, сильно различаются по результатам тренировок (обзоры см. В Könen and Karbach, 2015; Katz et al., 2016), очень важно изучить индивидуальные различия в исходной производительности, а также развитие индивидуальной производительности во время обучения, чтобы понять эти различия в результатах. Предыдущие исследования, например, показали, что тренировки EF часто приводят к эффектам компенсации, указывая на то, что участники с более низкими исходными показателями получают больше пользы (например,г., Сепеда и др., 2001; Берер и др., 2008; Карбах и Край, 2009; Zinke et al., 2012), а также индивидуальные различия в возрасте и подвижном интеллекте (Bürki et al., 2014), мотивационные аспекты (Katz et al., 2016) и количество тренировочных результатов (например, Jaeggi et al., 2011) способствовали успеху обучающих мероприятий. Однако основные механизмы до сих пор в значительной степени неизвестны, особенно в раннем детстве.
Еще один аспект, которому все больше и больше внимания уделяется в области исследований в области обучения, - это вопрос, какие аспекты вмешательства обеспечивают умеренные достижения, вызванные тренировкой.В то время как в текущих метаанализах проверялись эффекты, связанные с интенсивностью, частотой и адаптивностью тренировок, и это лишь некоторые из них (например, Karbach and Verhaeghen, 2014; Au et al., 2015; Schwaighofer et al., 2015), другие особенности - например, учебному плану обучения - уделялось меньше внимания. Однако, поскольку EF влечет за собой когнитивные процессы более высокого уровня, было высказано предположение, что метакогнитивные процессы, то есть отражение собственного мышления и действий, могут быть важны для развития и пластичности EF (например,г., Zelazo et al., 2003; Шевалье и Блей, 2016). Этот аспект изучался в нескольких недавних исследованиях. Espinet et al. (2013) в трех экспериментах показали, что обучение с корректирующей обратной связью и инструкциями по размышлению над задачей привело к существенному улучшению показателей DCCS в возрасте от 2 до 4 лет. По сравнению с контрольной группой, обученные дети получили больше пользы от неподготовленной версии DCCS. Более того, они показали значительное уменьшение амплитуды N2 (индикатор обнаружения конфликта) при выполнении DCCS и одновременно увеличение времени реакции.Авторы пришли к выводу, что замедление могло дать время, необходимое для осмысления иерархической природы задачи DCCS и разрешения конфликта, присущего задаче (Espinet et al., 2012).
Аналогичным образом Moriguchi et al. (2015) обучили дошкольников от 3 до 5 лет работе с DCCS в двух экспериментах. Дети прошли предварительное тестирование, обучение и пост-тест. В экспериментальной группе они взаимодействовали с марионеткой, и их попросили объяснить задачу со всеми правилами марионетке, подумать о требованиях задачи или возможных стратегиях решения задачи, чтобы способствовать метакогнитивной рефлексии.Результаты показали, что экспериментальная группа улучшилась от предварительного теста к последнему и показала значительно лучшие результаты, чем контрольная группа, после теста. Более того, используя NIRS Moriguchi et al. (2015) показали более высокую активацию левой префронтальной коры после тренировки, что еще раз подтвердило важность префронтальной коры для EF.
Есть также свидетельства смены задач: Chevalier и Blaye (2016) исследовали, влияет ли мониторинг эмоциональной активности детей на ее развитие в возрасте от 6 до 10 лет. Они записали положение взгляда, пока участники выполняли парадигму переключения задач в самостоятельном темпе.В этом задании у детей было столько времени, сколько им нужно, чтобы активно подготовиться к следующему заданию. Как анализ траекторий взгляда, так и результативность показали, что старшие дети были лучше подготовлены, чем младшие, когда они отвечали, хотя младшим участникам могло потребоваться больше времени, чтобы подготовить свой ответ. Таким образом, с возрастом дети могут лучше контролировать участие в эмоциональных восприятии, что указывает на важный вклад метакогнитивных процессов в развитие эмоционального поля.
Несмотря на то, что эти открытия подчеркивают важность метапознания для эффективного функционирования EF, метакогнитивные инструкции редко применялись в исследованиях когнитивного обучения.В отличие от многих предыдущих подходов к обучению, метакогнитивное обучение EF не будет нацелено на увеличение количества EF, которое дети могут задействовать, а на качественное изменение того, как они задействуют EF в зависимости от сложности задачи (пример метакогнитивного обучения в исследованиях мышления см. др., 2000, 2001). Таким образом, метакогнитивное обучение должно способствовать гибкой адаптации к новым задачам, обучая детей размышлять о том, как к ним подойти, например, объединяя информацию о текущих задачах и прошлом опыте, чтобы взвесить соответствующие затраты (например,g., умственное усилие) и преимущества (например, вознаграждения) доступных стратегий контроля (см. Chevalier and Blaye, 2016). Метакогнитивное обучение должно дополнительно стимулировать оценку результатов, включая обнаружение ошибок и обработку обратной связи, которые все еще постепенно развиваются у маленьких детей (например, Chevalier et al., 2009; Andersen et al., 2014; DuPuis et al., 2014). Учитывая, что этот метакогнитивный подход относительно неспецифичен для конкретной задачи, он может даже поддерживать перенос тренировки гибкости на нетренированные задачи и способности.В будущих исследованиях, возможно, стоит рассмотреть этот многообещающий подход при разработке новых вмешательств для улучшения когнитивной гибкости (или ФВ в целом).
Заключение
Когнитивная гибкость быстро развивается в дошкольном возрасте и продолжает улучшаться в подростковом и молодом возрасте. Учитывая, что EF и, в частности, когнитивная гибкость, связаны со многими важными жизненными результатами, включая академические достижения (например, математика или навыки чтения; Yeniad et al., 2013; Titz and Karbach, 2014) и даже состояние здоровья в зрелом возрасте (Moffitt et al. al., 2011), были разработаны многочисленные вмешательства для улучшения ФВ у детей.
Недавние исследования по обучению предоставили накопленные доказательства способности тренировать когнитивную гибкость в раннем и среднем детстве. Мы проиллюстрировали эти обучающие эффекты, а также результаты по переносу на основе исследований с применением DCCS и парадигмы переключения задач. Было показано, что обучение по обеим задачам переносится на другие измерения EF и основные аспекты теории разума, такие как понимание ложных убеждений.Важно отметить, что эти эффекты не только присутствовали на поведенческом уровне, но также отражались с помощью отслеживания взгляда и нейробиологических измерений. Учитывая, что механизмы, лежащие в основе этих эффектов обучения и передачи, не до конца понятны, в будущих исследованиях следует попытаться разделить их, возможно, с учетом индивидуальных различий в результатах обучения и путем проверки роли метакогнитивных процессов в пластичности когнитивной гибкости в детстве.
Авторские взносы
Все перечисленные авторы внесли существенный, прямой и интеллектуальный вклад в работу и одобрили ее к публикации.
Финансирование
Это исследование финансировалось за счет гранта Немецкого исследовательского фонда (DFG), присужденного JK (KA 3216 / 2-1).
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Список литературы
Андерсен, Л. М., Виссер, И., Кроун, Э. А., Кулшин, П. К., и Райджмакерс, М. Е. (2014).Использование когнитивной стратегии в качестве показателя различий в развитии нейронных реакций на обратную связь. Dev. Psychol. 50, 2686–2696. DOI: 10.1037 / a0038106
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Андерсон, В. А., Андерсон, П., Нортам, Э., Джейкобс, Р., и Катроппа, К. (2001). Развитие управляющих функций в позднем детстве и подростковом возрасте в австралийской выборке. Dev. Neuropsychol. 20, 385–406. DOI: 10.1207 / S15326942DN2001_5
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Au, J., Шихан, Э., Цай, Н., Дункан, Дж. Дж., Бушкуль, М., и Джегги, С. М. (2015). Повышение гибкости интеллекта с помощью тренировки рабочей памяти: метаанализ. Психон. Бык. Ред. 22, 366–377. DOI: 10.3758 / s13423-014-0699-x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Берер, Л., Крамер, А. Ф., Петерсон, М. С., Колкомб, С., Эриксон, К., и Бечич, Э. (2008). Эффект переноса в стоимости постановки задачи и стоимости двойного задания после двойного тренинга у пожилых и молодых людей: дополнительные доказательства когнитивной пластичности в контроле внимания в позднем взрослом возрасте. Exp. Aging Res. 34, 188–219. DOI: 10.1080 / 03610730802070068
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Бунге, С. А., и Зелазо, П. Д. (2006). Основанный на мозге отчет о развитии использования правил в детстве. Curr. Реж. Psychol. Sci. 15, 118–121.
Google Scholar
Бюрки, К. Н., Людвиг, К., Чичерио, К., и де Рибопьер, А. (2014). Индивидуальные различия в когнитивной пластичности: исследование тренировочных кривых у молодых и пожилых людей. Psychol. Res. 78, 821–835. DOI: 10.1007 / s00426-014-0559-3
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карпентер, М., Нагелл, К., Томаселло, М., Баттерворт, Г., и Мур, К. (1998). Социальное познание, совместное внимание и коммуникативная компетентность с 9 до 15 месяцев. Monogr. Soc. Res. Child Dev. 63, 1–143. DOI: 10.2307 / 1166214
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Кейси, Б. Дж., Тоттенхэм, Н., Листон, К., и Дерстон, С. (2005). Визуализация развивающегося мозга: что мы узнали о когнитивном развитии? Trends Cogn. Sci. 9, 104–110. DOI: 10.1016 / j.tics.2005.01.011
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сепеда, Н. Дж., Крамер, А. Ф., и Гонсалес де Сатер, Дж. К. М. (2001). Изменения в исполнительном контроле на протяжении жизни: исследование производительности переключения задач. Dev. Psychol. 37, 715–730. DOI: 10.1037 // 0012-1649.37.5.715
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Chevalier, N., and Blaye, A. (2009). Постановка целей для переключения между задачами: влияние прозрачности реплики на когнитивную гибкость детей. Dev. Psychol. 45, 782–797. DOI: 10.1037 / a0015409
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шевалье, Н., Довье, Б., и Блей, А. (2009). Использование обратной связи дошкольниками для гибкого поведения: выводы из вычислительной модели. J. Exp. Child Psychol. 103, 251–267. DOI: 10.1016 / j.jecp.2009.03.002
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Крон, Э. А., Донохью, С. Э., Хономихл, Р., Венделкен, К., и Бунге, С. А. (2006). Области мозга, обеспечивающие гибкое использование правил во время разработки. J. Neurosci. 26, 11239–11247. DOI: 10.1523 / jneurosci.2165-06.2006
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Крон, Э.А., Риддеринхоф, К.Р., Ворм, М., Сомсен, Р. Дж. М., и ван дер Молен, М. В. (2004). Переключение между пространственными сопоставлениями стимулов и ответов: исследование когнитивной гибкости с точки зрения развития. Dev. Sci. 7, 443–455. DOI: 10.1111 / j.1467-7687.2004.00365.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дэвидсон, М.С., Амсо, Д., Андерсон, Л.С., и Даймонд, А. (2006). Развитие когнитивного контроля и управляющих функций от 4 до 13 лет: данные манипуляции с памятью, торможением и переключением задач. Neuropsychologia 44, 2037–2078. DOI: 10.1016 / j.neuropsychologia.2006.02.006
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дёбель, С., Зелазо, П. Д. (2015). Метаанализ сортировки карточек Dimensional Change: значение для теорий развития и измерения управляющих функций у детей. Dev. Ред. 38, 241–268. DOI: 10.1016 / j.dr.2015.09.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дёрренбехер, С., Мюллер, П. М., Трегер, Дж., И Край, Дж. (2014). Диссоциативное влияние игровых элементов на мотивацию и познание в обучении с переключением задач в среднем детстве. Фронт. Psychol. 5: 1275. DOI: 10.3389 / fpsyg.2014.01275
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дункан, Дж., Джонсон, Р., Свалс, М., и Фрир, К. (1997). Дефицит лобных долей после травмы головы: единство и разнообразие функций. Cogn. Neuropsychol. 14, 713–741. DOI: 10.1080/026432997381420
CrossRef Полный текст | Google Scholar
DuPuis, D., Ram, N., Willner, C.J., Каралунас, S., Segalowitz, S.J., и Gatzke-Kopp, L.M. (2014). Значение текущего нейронного развития для измерения негативности, связанной с ошибками, в детстве. Dev. Sci. 18, 452–468. DOI: 10.1111 / desc.12229
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Эспинет, С. Д., Андерсон, Дж. Э., и Зелазо, П. Д. (2012).Амплитуда N2 как нейронный маркер управляющей функции у маленьких детей: исследование ERP детей, которые переключаются, а не настойчивы, в сортировке по карточкам размерных изменений. Dev. Cogn. Neurosci. 2, 49–58. DOI: 10.1016 / j.dcn.2011.12.002
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Эспине, С. Д., Андерсон, Дж. Э., и Зелазо, П. Д. (2013). Тренировка рефлексии улучшает управляющую функцию у детей дошкольного возраста: поведенческие и нейронные эффекты. Dev.Cogn. Neurosci. 4, 3–15. DOI: 10.1016 / j.dcn.2012.11.009
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Иезекииль, Ф., Босма, Р., Мортон, Дж. Б. (2013). Производительность сортировки карты изменения размеров связана с возрастными различиями в функциональной связности боковой префронтальной коры. Dev. Cogn. Neurosci. 5, 40–50. DOI: 10.1016 / j.dcn.2012.12.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гарон, Н., Брайсон, С. Э., и Смит, И. М. (2008). Исполнительная функция у дошкольников: обзор с использованием интегративной основы. Psychol. Бык. 134, 31–60. DOI: 10.1037 / 0033-2909.134.1.31
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Gogtay, N., Giedd, J. N., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, C., Nugent, T. F., et al. (2004). Динамическое картирование коркового развития человека в детстве до раннего взросления. Proc. Natl. Акад. Sci. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 101, 8174–8179. DOI: 10.1073 / pnas.0402680101
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Houdé, O., Zago, L., Crivello, F., Moutier, S., Pineau, A., Mazoyer, B., et al. (2001). Доступ к дедуктивной логике зависит от правой вентромедиальной префронтальной области, посвященной эмоциям и чувствам. Neuroimage 14, 1486–1492. DOI: 10.1006 / nimg.2001.0930
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Худе, О., Заго, Л., Mellet, E., Moutier, S., Pineau, A., Mazoyer, B., et al. (2000). Переход от перцептивного мозга к логическому. J. Cogn. Neurosci. 12, 721–728. DOI: 10.1162 / 089892
2525
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хьюз, К. (1998). Исполнительная функция у дошкольников: связь с теорией психики и вербальных способностей. руб. J. Dev. Psychol. 16, 233–253. DOI: 10.1111 / j.2044-835X.1998.tb00921.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хейзинга, М., Долан, К. В., и ван дер Молен, М. В. (2006). Возрастное изменение исполнительной функции: тенденции развития и анализ латентных переменных. Neuropsychologia 44, 2017–2036. DOI: 10.1016 / j.neuropsychologia.2006.01.010
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хейзинга, М., и ван дер Молен, М. В. (2007). Различия между возрастными группами в переключении наборов и обслуживании наборов при выполнении задачи сортировки карт штата Висконсин. Dev. Neuropsychol. 31, 193–215.DOI: 10.1080 / 87565640701190817
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Джегги, С. М., Бушкуль, М., Йонидес, Дж., И Шах, П. (2011). Краткосрочные и долгосрочные преимущества когнитивных тренировок. Proc. Natl. Акад. Sci. США 108, 10081–10086. DOI: 10.1073 / pnas.1103228108
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хурадо, М. Б., и Росселли, М. (2007). Неуловимая природа исполнительных функций: обзор нашего нынешнего понимания. Neuropsychol. Ред. 17, 213–233. DOI: 10.1007 / s11065-007-9040-z
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карбах Дж. И Край Дж. (2007). Изменения в развитии при переключении между наборами умственных задач: влияние вербальной маркировки в детстве. J. Cogn. Dev. 8, 205–236. DOI: 10.1080 / 15248370701202430
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карбах Дж. И Край Дж. (2009). Насколько полезно обучение исполнительному контролю? Возрастные различия в ближнем и дальнем переносе обучения с переключением задач. Dev. Sci. 12, 978–990. DOI: 10.1111 / j.1467-7687.2009.00846.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карбах Дж. И Край Дж. (2016). «Исполнительные функции» в Когнитивное обучение - Обзор функций и приложений , ред. Т. Стробах и Дж. Карбах (Cham: Springer International), 93–103.
Google Scholar
Карбах, Дж., И Верхаген, П. (2014). «Заставить рабочую память работать» - метаанализ исполнительного контроля и тренировки рабочей памяти у пожилых людей. Psychol. Sci. 25, 2027–2037. DOI: 10.1177 / 0956797614548725
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Кац, Б., Джонс, М. Р., Шах, П., Бушкюль, М., и Джегги, С. М. (2016). «Индивидуальные различия и мотивационные эффекты», в Cognitive Training - An Overview of Features and Applications , ред. Т. Стробах и Дж. Карбах (Cham: Springer International), 157–166.
Google Scholar
Клоо Д., Пернер Дж.(2003). Перенос обучения между сортировкой карточек и пониманием ложных убеждений: помощь детям в применении противоречивых описаний. Child Dev. 74, 1823–1839. DOI: 10.1046 / j.1467-8624.2003.00640.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Конен, Т., Стробах, Т., и Карбах, Дж. (2016). «Рабочая память» в Cognitive Training - Обзор возможностей и приложений , ред. Т. Стробах и Дж. Карбах (Cham: Springer International), 59–68.
Google Scholar
Край Дж., Эбер Дж. И Карбах Дж. (2008). Вербальные инструкции при переключении задач: средство компенсации дефицита контроля над действием в детстве и старости? Dev. Sci. 11, 223–236. DOI: 10.1111 / j.1467-7687.2008.00673.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Край Дж., Карбах Дж., Хениг С. и Фрайтаг К. (2012). Может ли тренировка с переключением задач улучшить исполнительный контроль у детей с синдромом дефицита внимания / гиперактивности? Фронт.Гм. Neurosci. 5: 180. DOI: 10.3389 / fnhum.2011.00180
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мияке А., Фридман Н. П., Эмерсон М. Дж., Витцки А. Х., Ховертер А. и Вейджер Т. (2000). Единство и разнообразие управляющих функций и их вклад в сложные задачи «лобной доли»: анализ скрытых переменных. Cogn. Psychol. 41, 49–100. DOI: 10.1006 / cogp.1999.0734
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Моффитт, Т.E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R.J., Harrington, H., et al. (2011). Градиент детского самоконтроля предсказывает здоровье, богатство и общественную безопасность. Proc. Natl. Акад. Sci. США 108, 2693–2698. DOI: 10.1073 / pnas.1010076108
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Моригути Ю., Хираки К. (2014). Нейронные основы обучения по телевидению у детей раннего возраста. Trends Neurosci. Educ. 3, 122–127. DOI: 10.1016 / j.tine.2014.07.001
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Моригути Ю., Саката Ю., Исибаши М. и Исикава Ю. (2015). Обучение других использованию правил улучшает исполнительную функцию и префронтальную активацию у маленьких детей. Фронт. Psychol. 6: 894. DOI: 10.3389 / fpsyg.2015.00894
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мортон, Дж. Б., Босма, Р., и Ансари, Д. (2009). Возрастные изменения активации мозга, связанные с размерными сдвигами внимания: исследование фМРТ. Neuroimage 46, 249–256. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2009.01.037
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Реймерс, С., Мейлор, Э. А. (2005). Переключение задач на протяжении всего срока службы: влияние возраста на общие и конкретные затраты на переключение. Dev. Psychol. 41, 661–671. DOI: 10.1037 / 0012-1649.41.4.661
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Рётлисбергер, М., Нойеншвандер, Р., Чимели, П., Мишель, Э., и Роберс, К. М. (2012). Улучшение управляющих функций у 5- и 6-летних: оценка вмешательства в малых группах в дошкольных и детских садах. Infant Child Dev. 21, 411–429. DOI: 10.1002 / icd.752
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Рубиа К., Смит А. Б., Вулли Дж., Носарти К., Хейман И., Тейлор Э. и др. (2006). Прогрессивное усиление лобной активации мозга от детства к взрослой жизни во время событийных задач когнитивного контроля. Хум. Brain Mapp. 27, 973–993. DOI: 10.1002 / hbm.20237
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Руэда, М. Р., Кумбита, Л. М., и Посуэлос, Дж. П. (2016). «Детство и юность», в Когнитивное обучение - Обзор возможностей и приложений , ред. Т. Стробах и Дж. Карбах (Cham: Springer International), 33–44.
Google Scholar
Швайгхофер М., Фишер Ф. и Бюнер М. (2015). Переносится ли тренировка рабочей памяти? Метаанализ, включая условия обучения модераторам. Educ. Psychol. 50, 138–166. DOI: 10.1080 / 00461520.2015.1036274
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Стусс, Д. Т., и Александр, М. П. (2000). Исполнительные функции и лобные доли: концептуальный вид. Psychol. Res. 63, 289–298.
Google Scholar
Траверсо, Л., Витербори, П., и Усай, М. К. (2015). Улучшение управляющей функции в детстве: оценка обучающего вмешательства для 5-летних детей. Фронт.Psychol. 6: 525. DOI: 10.3389 / fpsyg.2015.00525
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
ван Берс, Б. М., Виссер, И., и Райджмакерс, М. (2014). Дошкольники учатся переключаться с помощью причинно-следственной обратной связи. J. Exp. Child Psychol. 126, 91–102. DOI: 10.1016 / j.jecp.2014.03.007
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Венделкен, К., Мунаката, Ю., Байм, К., Соуза, М., и Бунге, С. А. (2012). Гибкое использование правил: общие нейронные субстраты у детей и взрослых. Dev. Cogn. Neurosci. 2, 329–339. DOI: 10.1016 / j.dcn.2012.02.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Вибе, С. А., Эспи, К. А., и Чарак, Д. (2008). Использование подтверждающего факторного анализа для понимания исполнительного контроля у детей дошкольного возраста: I. Скрытая структура. Dev. Psychol. 44, 575–587. DOI: 10.1037 / 0012-1649.44.2.575
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Вибе, С.А., Шеффилд, Т., Нельсон, Дж. М., Кларк, К. А. С., Шевалье, Н., и Эспи, К. А. (2011). Структура исполнительной функции у детей 3-х лет. J. Exp. Child Psychol. 108, 436–452. DOI: 10.1016 / j.jecp.2010.08.008
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Йениад, Н., Мальда, М., Месман, Дж., Ван Эйзендорн, М. Х. и Пипер, С. (2013). Способность к сдвигу определяет способность детей к математике и чтению: метааналитическое исследование. Узнай. Индивидуальный. Отличаются. 23, 1–9.DOI: 10.1016 / j.lindif.2012.10.004
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Зелазо П. Д., Мюллер У., Фрай Д. и Маркович С. (2003). Развитие исполнительной функции. Monogr. Soc. Res. Child Dev. 68, vii-137. DOI: 10.1111 / j.0037-976x.2003.00261.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Zinke, K., Einert, M., Pfennig, L., and Kliegel, M. (2012). Пластичность исполнительного контроля через тренировку переключения задач у подростков. Фронт. Гм. Neurosci. 6:41. DOI: 10.3389 / fnhum.2012.00041
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
.Влияние отца на развитие ребенка | Услуги по профилактике, лечению и социальному обеспечению жестокого обращения с детьми
День отца - это время, когда мы отмечаем отцов и их личностей и их вклад в дело своих детей и общества в целом. Дети, у которых есть активные, заинтересованные отцы, получают огромные преимущества в детстве и юности. Проект «Отцовство», некоммерческая программа отцовства, направленная на улучшение здоровья и благополучия детей и семей путем предоставления отцам возможности быть осведомленными, активными и эмоционально вовлеченными со своими детьми, исследовала конкретное влияние вовлечения отца на развитие ребенка. .
Вот 10 важных фактов, которые были собраны в ходе их исследования:
10 фактов о помолвке с отцом
- Отцы и младенцы могут быть одинаково привязаны, как матери и младенцы. Когда оба родителя связаны с ребенком, младенцы привязаны к обоим родителям с самого начала жизни.
- Участие отца связано с положительными последствиями для здоровья детей грудного возраста, такими как улучшение набора веса у недоношенных детей и улучшение показателей грудного вскармливания.[2]
- Участие отца, использующее авторитетное воспитание (любящее, с четкими границами и ожиданиями), приводит к лучшим эмоциональным, академическим, социальным и поведенческим результатам для детей.
- Дети, которые чувствуют близость со своим отцом: в два раза чаще, чем те, кто не поступит в колледж или не найдет стабильную работу после школы, на 75% меньше вероятность рождения подростка, на 80% меньше вероятность провести время в тюрьме, и вдвое реже испытывают множественные симптомы депрессии.
- Отцы играют решающую роль в развитии ребенка. Отсутствие отца препятствует развитию с раннего младенчества до детства и взрослой жизни. Психологический вред отсутствия отца, испытанный в детстве, сохраняется на протяжении всей жизни.
- Качество взаимоотношений отца и ребенка имеет большее значение, чем конкретное количество часов, проведенных вместе. Отцы-нерезиденты могут оказывать положительное влияние на социальное и эмоциональное благополучие детей, а также на успеваемость и адаптацию к поведению.
- Высокий уровень участия отца коррелирует с более высоким уровнем общительности, уверенности и самоконтроля у детей. Дети с вовлеченными отцами с меньшей вероятностью будут вести себя плохо в школе или вести себя рискованно в подростковом возрасте.
- Дети, у которых есть активно вовлеченные отцы: на 43% больше шансов получить пятерку в школе и на 33% меньше вероятность повторять класс, чем у детей без помолвленных отцов.
- Привлечение отца снижает частоту поведенческих проблем у мальчиков, а также снижает преступность и экономическое положение в семьях с низким доходом.
- Привлечение отца снижает психологические проблемы и снижает уровень депрессии у молодых женщин.
В целом отцы и отцы могут оказать существенное влияние. Подобно тому, как участие отца имеет много положительных аспектов, его отсутствие также может иметь пагубные последствия.
Отсутствие отца
Согласно отчету ЮНИСЕФ о благополучии детей в экономически развитых странах за 2007 год, дети в США, Канаде и США.К. занимают крайне низкое положение в отношении социального и эмоционального благополучия в частности. Было исследовано множество теорий, чтобы объяснить плохое положение детей нашей страны. Однако фактор, который в значительной степени игнорируется, особенно среди разработчиков политики в отношении детей и семьи, - это распространенность и разрушительные последствия отсутствия отца в жизни детей.
Во-первых, исследования неоднократно показывают, что дети, у которых в доме нет отца, сильно страдают. Еще до рождения ребенка отношение отца к беременности, поведению в дородовой период и отношениям между отцом и матерью может косвенно влиять на риск неблагоприятных исходов родов.Исследования показывают, что в раннем детстве дети школьного возраста с хорошими отношениями со своими отцами с меньшей вероятностью будут испытывать депрессию, проявлять деструктивное поведение или лгать. В целом, они были гораздо более склонны к просоциальному поведению.
В подростковом возрасте наличие домов без отца имеет невероятные последствия, поскольку эти дети с большей вероятностью испытают на себе последствия бедности. Бывший президент Джордж Буш даже обратился к этому вопросу, находясь у власти, заявив: «За последние четыре десятилетия безотцовщина превратилась в одну из наших величайших социальных проблем.Мы знаем, что детям, которые растут с отсутствующими отцами, может быть нанесен серьезный ущерб. Они с большей вероятностью окажутся в бедности или бросят школу, станут зависимыми от наркотиков, родят внебрачных детей или попадут в тюрьму. Безотцовщина - не единственная причина всего этого, но наша страна должна признать, что это важный фактор ».
Говоря языком повествования, многие люди могут подтвердить тот факт, что нельзя отрицать долговременное влияние отца на жизнь ребенка. Многие признают, что они боролись с чувством покинутости и низкой самооценкой из-за отсутствия в их жизни отцовской любви.Некоторые обратились к наркотикам, алкоголю, рискованным сексуальным действиям, нездоровым отношениям или другим деструктивным формам поведения, чтобы заглушить боль безотцовщины.
Хотя отсутствие отца не является изолированным фактором риска, оно определенно может сказаться на развитии детей. Это важно отметить, поскольку многие утверждают, что одна родительская роль важнее другой. Это просто не соответствует действительности.
Согласно Psychology Today, исследователи подтвердили эти рассказы.Отсутствие отца у детей приводит к катастрофическим последствиям по ряду причин:
- Заниженная самооценка детей и скомпрометированная физическая и эмоциональная безопасность (дети постоянно сообщают, что чувствуют себя брошенными, когда их отцы не участвуют в их жизни, борются со своими эмоциями и эпизодическими приступами ненависти к себе)
- Поведенческие проблемы (дети без отца имеют больше трудностей с социальной адаптацией и более склонны сообщать о проблемах с дружбой и проявлять поведенческие проблемы; у многих развивается чванливый, пугающий образ в попытке замаскировать свои основные страхи, обиды, беспокойство и несчастье)
- Прогулы и плохая успеваемость (71 процент бросивших школу являются сиротами; дети, оставшиеся без отца, имеют больше проблем в учебе, имеют низкие баллы по тестам по чтению, математике и мышлению; дети из отцов, отсутствующих дома, чаще прогуливают школу с большей вероятностью будут исключены из школы, с большей вероятностью бросят школу в 16 лет и с меньшей вероятностью получат академическую и профессиональную квалификацию в зрелом возрасте)
- Преступность и преступность среди молодежи, включая насильственные преступления (у 85 процентов молодых людей в тюрьмах отсутствует отец; дети, оставшиеся без отца, с большей вероятностью совершат правонарушение и попадут в тюрьму, как взрослые)
- Беспорядочные половые связи и подростковая беременность (дети, оставшиеся без отца, с большей вероятностью будут испытывать проблемы с сексуальным здоровьем, включая большую вероятность вступить в половую связь до 16 лет, отказаться от контрацепции во время первого полового акта, стать родителями-подростками и заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем; девочки проявляют объектный голод по мужчинам, и, эгоцентрически переживая эмоциональную потерю своих отцов, как отказ от них, становятся подверженными эксплуатации со стороны взрослых мужчин)
- Злоупотребление наркотиками и алкоголем (дети, оставшиеся без отца, чаще курят, употребляют алкоголь и злоупотребляют наркотиками в детстве и в зрелом возрасте)
- Бездомность (у 90 процентов беглых детей отсутствует отец)
- Эксплуатация и жестокое обращение (дети, оставшиеся без отца, подвергаются большему риску физического, эмоционального и сексуального насилия и в пять раз чаще подвергаются физическому насилию
- Жестокое обращение и эмоциональное обращение с риском жестокого обращения со смертельным исходом в сто раз выше; недавнее исследование показало, что дошкольники, живущие без обоих своих биологических родителей, в 40 раз чаще подвергаются сексуальному насилию)
- Проблемы с физическим здоровьем (дети без отца сообщают о значительно большем количестве психосоматических симптомов и болезней, таких как острая и хроническая боль, астма, головные боли и боли в животе)
- Психические расстройства (отсутствие отца у детей постоянно преобладает по широкому кругу проблем психического здоровья, особенно тревоге, депрессии и самоубийству)
- Жизненные шансы (взрослые дети без отца чаще сталкиваются с безработицей, имеют низкий доход, остаются на социальной помощи и становятся бездомными)
- Отношения в будущем (отец, у которого нет детей, как правило, раньше вступает в партнерские отношения, более вероятно, что они разводятся или расторгнут сожительские союзы, и более вероятно, что у них будут дети вне брака или вне каких-либо партнерских отношений)
- Смертность (дети, оставшиеся без отца, чаще умирают в детстве и живут в среднем на четыре года меньше в течение всей жизни)
Советы папам
Пап! Жизненно важно, чтобы вы прилагали все усилия, чтобы активно участвовать в жизни своего ребенка, независимо от того, живете ли вы с ним в одном доме или нет.Вот несколько отличных способов наладить здоровое и позитивное взаимодействие с вашими детьми (адаптировано из Modern Dad Dilemma ):
- Положительно говорите об их матери и о ней. Так важно быть на одной волне с их матерью о том, какой вы хотите видеть свою роль и как она будет выглядеть. Это особенно важно в ситуациях, когда отношения разрываются в результате развода или разлуки. Будьте ясны и уважительны, подчеркивая свое желание быть активным отцом для своих детей.Также положительно говорите о ней перед своими детьми! Иногда у вас могут быть разногласия, но ваш ребенок должен знать, что вы уважаете его мать. Они такие же ее дети, как и их! Плохой отзыв об их матери только испортит ваши отношения с ними.
- Создайте видение участия в отцовстве. Что, по вашему мнению, ваши дети скажут о вас как об отце через двадцать лет? Как вы надеетесь, они не скажут? Ответы на эти вопросы помогут вам прояснить свое понимание цели как отца и направят вас в принятии важных решений в отношении собственных детей.Как туда попасть?
- Будьте мостом между собственным отцом и детьми. Независимо от того, считаете ли вы своего отца (или мать) образцом для воспитания детей, наследие наших родителей, к лучшему или к худшему, живет внутри каждого из нас, поэтому важно исследовать и понимать наследие своей семьи, особенно ваши отношения с отцом. Как вы передадите своим детям положительные стороны ваших отношений с отцом? Как вы избежите повторения негативных аспектов ваших отношений с отцом?
- Установить ритуал времени папы.Один из способов регулярно проводить с ребенком позитивное время - создать ритуальное время для папы. Это не заменяет более частые ритуалы, такие как ведение детей в школу или чтение им перед сном. Собирайтесь вместе как отец / ребенок не реже одного раза в месяц. Минимум в течение одного-двух часов и с одним ребенком за раз (это может быть сложно для больших семей, но это важно для построения отношений один на один). Выберите занятие, с которым вы оба согласны. Вы можете позволить своему ребенку выбирать или менять того, кто решает.Мы не рекомендуем руководящих решений, за исключением случаев крайнего сопротивления. Убедитесь, что вы разговариваете вместе. Использование «динамичных разговоров» (например, стрельба в корзину или видеоигры во время разговора) - это прекрасно, но мужчинам также необходимо моделировать диалог лицом к лицу для детей любого возраста. Вам не всегда нужно отвлекаться! Быть последовательным. Ритуал не обязательно должен проводиться каждый месяц в один и тот же день, но убедитесь, что это происходит, чтобы ваш ребенок мог рассчитывать на него. Попробуйте запланировать следующий ритуал в конце каждого раза вместе!
- Знай своих детей.Каждый ребенок жаждет интереса, внимания и присутствия своих основных опекунов. Им нужно, чтобы вы знали, кто они как уникальные личности, а не как сосуды для наших собственных грандиозных планов или нереализованных мечтаний. Став экспертом в жизни своих детей - зная, что означает определенное выражение их лица, как лучше всего их уснуть, кто их друзья, что они делают в школе, что вызывает у них стресс - вы отправляете четкое и мощное сообщение о том, что они достойны вашего времени, интереса и внимания.
- Будьте известны своим детям. Рассказывая детям, вы можете больше узнать о вас - это отличный способ укрепить вашу связь. Какими вы были в возрасте вашего ребенка? Какие ошибки вы сделали? Как вы справлялись со смущением? Какими были родители ваших друзей? Истории не только очеловечивают вас и дают детям представление о том, откуда они берутся, но также могут быть эффективным способом начать конструктивный диалог с вашим ребенком.
Здесь, в Детском бюро, мы надеемся, что вы признаете свою огромную ценность как отца! Вы действительно можете изменить жизнь своих детей, и польза от этого будет долгой! Ознакомьтесь с нашей программой Dads Matter, которая предоставляет отцам и отцам жизненно важные инструменты, ресурсы и поддержку для воспитания своих детей.Папы, мы ценим вас больше, чем вы думаете!
.Зависимость потребности в саморазвитии и психологических особенностей юного возраста студентов вузов, связанная с формированием их Я-концепции
А.А. Оплетин , доцент, канд.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Ключевые слова: личность, саморазвитие, Я-концепция, психологические особенности, дошкольный возраст.
Введение. В современную эпоху - в период перехода от классического к неоклассическому типу науки - актуальными стали образовательные проблемы ее прошлого и будущего.Стратегия модернизации советской образовательной системы предполагает создание оптимальных условий для творческого саморазвития человека. Цель гармоничного развития личности в современных условиях может быть достигнута только на основе системной реализации педагогического принципа индивидуального подхода.
Целью исследования было провести теоретический анализ выявления потребности в саморазвитии у мальчиков, исходя из принципа психологических особенностей возраста развития.
Результаты и обсуждение. Обращаясь к психологическим особенностям личности, можно выявить основные изменения в саморазвитии (Крутецкий В.А., Немов П.С., Петровский А.В., Платонов К.К. и др.).
В литературе ярко прослеживается установка, постулирующая формирование индивидуального самосознания и устойчивой Я-концепции как первичных психологических процессов дошкольного возраста (Выготский Л.С., Кон И.С., Крутецкий В.А., Лейтес Н.С., Немов Р. .С. и др.). Проявление Эго как представителя целостности - сложное многосистемное и многоуровневое явление. N.B. Крылова предполагает, что «личность, ее индивидуальность и самость - это взаимосвязанные, взаимоорганизованные и самосовершенствующиеся открытые системы, которые чрезвычайно гибки в накоплении опыта самодвижения и самоаккомодации, а также в использовании этого опыта функционально». [10].
В частности, И.С. Кон утверждает, что формирование сознания - квинтэссенция и главный результат наступления юношеского возраста [8, с.59]. Не углубляясь в данную проблему в данной интерпретации, следует отметить, что среди различных подходов к проблеме осознания мы предпочитаем идею К. Венцеля, в психологической теории которого выделялись три аспекта самосознания: когнитивный, эмоциональный и волевой. Все эти аспекты являются важными предпосылками для рассмотрения индивидуального саморазвития в дошкольном возрасте [5].
Ровно в дошкольном возрасте человек начинает выделять себя как объект самопознания и саморазвития.Рост самосознания связан с ключевыми качествами человека: волей, моральными установками и чувствами, а также формированием идеалов. Объясняется это возрастными особенностями человека, когда появляется потребность в самосознании и потенциал интеграции в общество. В этом возрасте представления о самобытности и исключительности являются результатом дальнейшего развития самооценки молодежи, начавшейся в предшествующий юношеский период и сформировавшейся в период юности в единый процесс.По словам И.С. Кон, забота о самости проистекает из процессов достижения физического полового созревания и формирования социальной личности. С одной стороны, протекают биологические процессы и почти достигнуто физиологическое половое созревание; создается устойчивая сексуальная идентичность. С другой стороны, формируется индивидуальное самосознание, связанное с характером личности. Развивается рефлексивное мышление, позволяющее погрузиться во внутренний мир, открыть для себя широкий мир чувств, чувств и отношений.«Я» выходит на качественно новый уровень самосознания и отношений с внешним миром. По словам И.С. Кон, характеристики индивидуальной формы предшествуют характеристикам идентичности. Психологи констатируют, что в этот возрастной период у человека существенно меняется манера восприятия, повышается избирательность, рефлексия выходит на новый этап [9].
В литературе есть данные, свидетельствующие о том, что саморазвитие, являющееся основой для возникновения самосознания и формирования Я-концепции, в период юности основывается на личных представлениях о самом важном, а не на приверженности. коллективным нормам [3].Это положительное явление при отсутствии педагогической поддержки и помощи может привести к неадекватной самооценке. Однако психологи считают, что это не всегда негативно для саморазвивающейся личности. В частности, К.А. Альбуханова-Славская утверждает, что саморазвивающаяся личность должна искать как можно больше проекций самовосприятия в различных ситуациях, чтобы сохранять критическое отношение к себе, а не жесткую фиксацию на адекватности самооценки [ 1].Исследования психологов показывают, что именно в этот период развития личности происходит «совпадение» различных мнений и интересов (Выготский Л.С., Немов Р.С., Смирнов В.Е. и др.). Это не расходится с Л.С. Мнение Выготского о формировании целостного самовосприятия в этом возрасте, поскольку это восприятие формируется из различных попыток самоприспособления под другие нормы, и в результате формируется концентрированная личностная самооценка [6].
А.В. Мудрик предполагает, что большинство людей задумывается о смысле жизни в этот возрастной период [13].По словам А.С. Белкина, смысл существования - постоянный предмет мыслей человека. Главный стимул для этих мыслей - стремление к саморазвитию и познанию сути человеческих отношений [2]. Интеграция различных процессов (самопознание, самооценка и имитация) не только вызывает определенную целостность самооценки, но и стимулирует активность в этом направлении и стремление к саморазвитию и самоопределению как в отдельности. и в социальных аспектах.Психологи характеризуют это явление как тенденцию к прогрессивному развитию самосознания (Андреева А.Д., Гуткина Н.И., Дубровина И.В., Круглов Б.С., Прихожан А.М., Снегирева Т.В. и др.). Например, И.В. Дубровина констатирует, что этот переходный период к взрослой жизни характеризуется не только получением спонтанной информации о собственной личности, но и преобладающим процессом «самоисследования» через общение с внешним миром [15]. Я.С. Кон предполагает, что это приводит к такому свойству, как чувство индивидуальной самоидентификации, непрерывности и единства [8]. Этапы развития самоидентификации, выделенные И.С. Кон представляют собой интегративную деятельность по саморазвитию, которая, по мнению Л.Н. Куликовой, можно использовать для программирования уровня процесса саморазвития личности в этом возрасте [11].
Многие стереотипы отвергаются в переходный период, который характеризуется болезненным пересмотром ценностей. Особенности отражения следует отнести к основным нововведениям периода молодости; в этот период развития личности заметно активизируется рефлексия.В процессе рефлексии достигается более глубокое самопознание и активируется система саморегуляции, которая дает молодому человеку чувство автономии и самости. В этот возрастной период потребность в самореализации в любви сильно влияет на самокомпозицию личности и формирование Я-концепции. Это объясняется сложными внутренними переживаниями и способствует развитию стремления к саморазвитию. ЯВЛЯЕТСЯ. Кон указывает: «У каждого человека есть определенные естественные сексуальные потенциалы, однако« сценарий »его сексуального поведения, а также объекты и способы его любви определяются всем комплексом условий, в которых сформировалась его личность» [8 ].В ВИДЕ. Белкин в своей книге «Развивающая педагогика» [2, с.166-168] дает типологию молодых людей, считающих себя в вопросах любви. Данная классификация, оцениваемая автором как относительная, выявляет неоднородность ориентаций молодежи в сложной и многофакторной сфере человеческих отношений. Это также напрямую связано с проблемой саморазвития личности как поиска самооценки в этой нерешенной проблеме жизни.
Тем не менее, стремление стать субъектом собственной трансформации в определенном направлении, учитывая возросшую независимость в этом возрасте, должно быть мотивировано, иначе саморазвитие может протекать спонтанно и несосредоточенно.Л.И. Божович утверждает, что потребность в реальном целенаправленном саморазвитии наиболее стойкая, когда такое стремление включено в систему ценностей человека, то есть косвенно определяется высшими формами самомотивации. Стремление к саморазвитию должно иметь свою мотивационную силу и выражаться в устойчивой иерархии концепции мотивации человека [4, с.171-179].
В новейшей литературе активно развивается психолого-педагогическая теория развития Я-концепции с точки зрения концепции саморазвития личности.Проблема рассматривается учеными в различных аспектах в зависимости от целей и задач исследования. Прежде всего, внимание уделяется изучению отдельных факторов, формирующих Я-концепцию в сфере общения и деятельности (Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Выготский Л.С., Петровский А.В. и др.). Внимание к Я-концепции человека возрастает по мере осмысления личности и ее роли в мире (Альбуханова-Славская К.А., Андреев В.И., Газман О.С., Мудрик А.В., Мухина В.С. и др.). Серьезное внимание уделяется такому важному компоненту самооценки, как самооценка (Кон И.С., Орлов Ю.М., Савонько Е.В., Степанов В.Г. и др.). Выявляются особенности развития Я-концепции личности (Кон И.С., Орлов Ю.М., Спиркина А.Г., Степанов В.Г., Чеснокова И.И., Шорохова Е.В., Ядов Я. и др.). Проблема развития Я-концепции изучается и в зарубежной литературе (Burns R., Gordon S., Maslow A., Rogers C., и другие.). По словам И.С. По определению Кона, самооценка основана на самовосприятии, которое проявляется как отношение человека к себе [9]. В литературе Я-концепция определяется как более или менее устойчивая система представлений человека о себе; об отношениях с другими людьми и окружающей средой. Это продукт самосознания, выступающего в качестве самостоятельного актера (Альбуханова-Славская К.А., Андреев А.И., Кон И.С., Крылов А.Н., Кули С., Прихожан А.М., Селевко Г.К. и др.). По мнению В.Я. Пилиповского, Я-концепция - это динамическая система личностного самовосприятия. Он включает осознание человеком своих физических, интеллектуальных, моральных и эстетических аспектов, самооценку и личное восприятие внешних факторов. Я-концепция определяет чувство благополучия и жизненную позицию человека [14]. Этот подход предполагает потенциальное вовлечение человека в саморазвитие не только через осознание и самовосприятие в новом статусе посредством убеждения, но и через опыт перехода состояний в этот статус, сформированный через самоубеждение, самовосприятие. осознанность и самочувствие [3].
Три интегральных характеристики, потребность, стремление и самооценка, являются основой внутреннего механизма саморегулирования [16, с.10]. Я-концепция в раннем юношеском возрасте на самом деле только формируется. Ему присущи «незавершенность, открытость, устремления в будущее» (Крылов А.Н.). Эта концепция представляет собой самовоспроизводящийся паттерн, предопределяющий перспективы саморазвития личности. Основные компоненты Я-концепции, определяемые возрастными психологическими особенностями, нестабильны.Когнитивный компонент убеждения полностью не обоснован. Эмоциональный компонент во многом характеризуется аффективностью к самооценке, ведущей к формированию соответствующей самооценки. Поведенческий компонент, как правило, определяется самовосприятием и самооценкой. В этой связи психологи считают самооценку важным неотъемлемым компонентом для «определения человеком своего места в жизни и жизненной позиции» (Альбуханова-Славская К.А.). По словам И.С. Кон, проблема жизненной позиции в этом возрасте тесно связана с проблемами социальной самоидентификации [9], что делает самооценку молодого человека основой формирования личности.
Я-концепция - сложное явление. По мнению Н. Крыловой, он состоит из пар «самоидеальный» - «самореальный» и «самонормативный» - «самовторичная доминанта». Первая пара реализуется в процессах социализации, вторая - в персонализации, что важно для формирования личностной индивидуализации.При воображаемом пересечении этих пар механизм самоопределения действует как отправная точка для отношений сознания и бессознательного всех самоидентичностей друг с другом [10].
Стремление к индивидуальному построению Я-концепции основано на проявлении реформаторской активности в этом возрасте. Н.С. Лейтес отмечает, что в этом возрасте происходит скрытая, но огромная внутренняя работа, трансформирующая личную деятельность [12]. Потребность в реальном участии в процессе целенаправленного саморазвития становится более устойчивой, когда стремление к этому развитию будет включено в систему личных ценностей, т.е.е. когда это будет определяться высшими формами личной мотивации.
Выводы. Анализ литературы по указанной проблеме выявил чувствительность этого периода для развития личности с проявленным самосознанием как активной силой для непосредственного личного участия в процессе. Психологи указывают на актуализированную самомотивную силу в этом возрасте с большим потенциалом для самосознания, самооценки, социального самоопределения как социоморальной, независимой, свободной личности, способной формировать самооценку без посторонней помощи.Как отмечают ученые, основа саморазвития студента - самомотивация, выраженная в деятельности с малым социальным опытом юности, может быть спонтанной, отрывая личность от реалий общественной жизни. При своем большом значении активность в самообразовании как личности может иметь негативное влияние на развитие Я-концепции личности. Таким образом, ранний дошкольный возраст требует различных видов деятельности и психолого-педагогической поддержки.
Ссылки
- Альбуханова-Славская, К.А. Жизненная стратегия / К.А. Альбуханова-Славская. - Москва: Мысль, 1991. –299 с. .
- Белкин, А. Психология детства (Основы развивающей педагогики) / А.С. Белкин. - Екатеринбург: Сократ, 1995. - 151 с. .
- Бернс Р. Развитие и воспитание Я-концепции: [Пер. с англ.] / Р. Бернс. - Москва: Прогресс, 1986. - 420 с. .
- Божович, Л. О развитии аффективно-потребной сферы человека / Л.И. Божович // Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии.- Москва, 1978. - С. 168–178. (На русском языке)
- Венцель, К. Очерк теории бесплатного образования / К. Венцель // Э.Н. Шиянов. Российская гуманистическая педагогика: становление и развитие / Е.Н. Шиянов, Н. Ромаева. - Москва, 2003. .
- Выготский, Л. Педагогическая психология / Л.С. Выгицкого - М .: Педагогика, 1991. - 479 с. .
- Кон, И. В поисках личности: личность и ее самосознание / И.С. Кон. - Москва: Политиздат, 1984.- 335 с.
- Кон, И. Психология раннего дошкольного возраста: сборник учителей / И.С. Кон - Москва: Просвещение, 1989. - 254 с. .
- Кон, И. Психология дошкольного возраста: проблемы формирования. / ЯВЛЯЕТСЯ. Кон - Москва: Просвещение, 1979. - 175 с. .
- Крылова, Н. Культура саморазвития личности / Н.Б. Крылова // Новые цены образования. - Москва, 1995. - Вып. 2.
- Куликова, Л. Проблемы саморазвития личности / Л.Н. Куликова. - Хабаровск: Опубл. г-н ХГПУ, 1997. - 313 с.
- Лейтес, Н. Психические способности и возраст / Н.С. Лейтес. - М .: Педагогика, 1971. - 279 с. .
- Мудрик, А. Введение в социальную педагогику / А.В. Мудрик. - Москва: Инт-те практи. психология, 1997. - 368 с.
- Пилиповский, В.Я. Вступительная статья / В.Я. Пилиповский // Р. Бернс Развитие и воспитание Я-концепции. - Москва, 1986. - С. 5–24. (На русском языке)
- Дубровина, И.В. Рабочая тетрадь школьного психолога / Под ред. Автор: И.В. Дубровина. - Москва: Просвещение, 1991. - 303 с. .
- Селевко, Г. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К. Селевко. - Москва: Нар. Образование, 1998. - 255 с. .
Контакты автора: [email protected]
.% PDF-1.6 % 446 0 объект > / Метаданные 595 0 R / AcroForm 528 0 R / Страницы 435 0 R / Тип / Каталог >> endobj 595 0 объект > поток uuid: 2a3aa134-e930-b949-9f50-be5ace56956badobe: docid: indd: f9f163da-1b30-11dc-ba3a-b5ffa962a9a4proof: pdff9f163d9-1b30-11dc-ba3a-f9b3000da9: b5cf2dda-b5cf2dda-b5cf2dda-9cf6da9dd3d3d5d5d5d5d5d5d5dd3d3ddd3d3ddd3d3ddd3d3d5d5dd3ddd3 ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid: 08872C29EF8F11DBA7E7984CC64B3603uuid: 08872C28EF8F11DBA7E7984CC64B3603